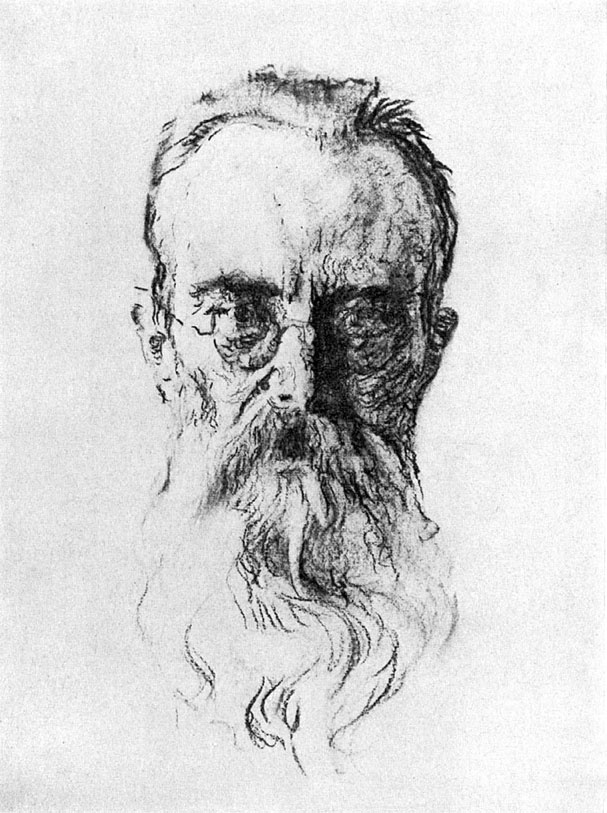Зимой 1907/08 года Дягилев и Нижинский три раза ужинали с Львовым и Нувелем. В конце декабря Дягилев «хвастался Нижинским, спрашивал советов»29. Но, по словам Нувеля, на тот момент все еще было несерьезно. В начале весны Дягилев опять уезжает в Париж работать над новой программой в Гранд-опера и на несколько месяцев расстается с Нижинским.
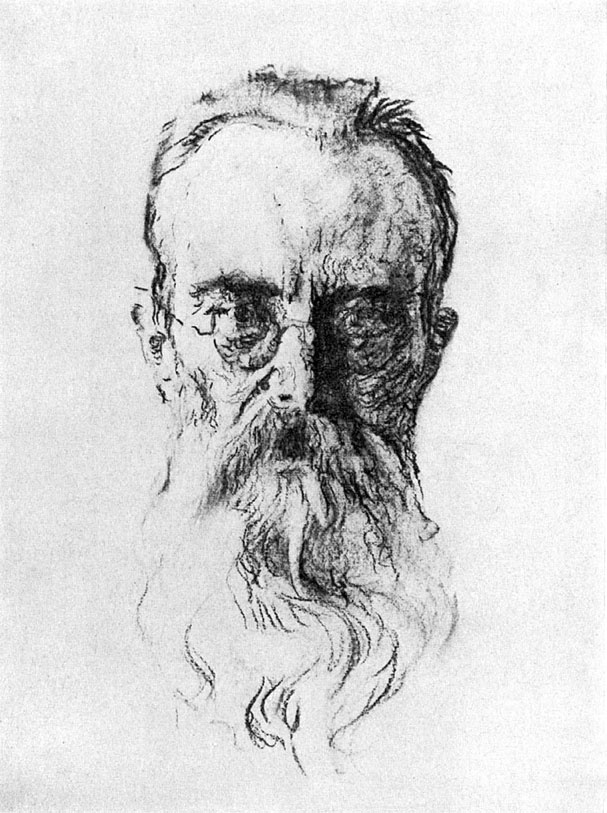
Н. Римский-Корсаков. Рисунок В. Серова
Новая программа в Париже призвана была восполнить серьезный недостаток предыдущей – отсутствие оперных постановок. Предполагалось, что в следующем сезоне в Парижской опере впервые будет показан «Борис Годунов», по мнению многих, самая прекрасная из русских опер, а также, возможно, «Садко» Римского-Корсакова. В обоих случаях опять-таки было не обойтись без участия композитора, с «Борисом» еще и потому, что Дягилев захотел работать не с оригиналом Мусоргского, а с оркестровкой Римского-Корсакова.
«Бориса» должны были исполнять по-русски, «Садко» по-французски (до Второй мировой войны применялась широко распространенная практика давать оперу на языке той страны, в которой ее ставили. Так, в Амстердаме Чайковского пели по-нидерландски). Все оформление спектакля, включая костюмы и декорации, сделали заново, чтобы не забирать их из Парижа, с учетом будущих спектаклей. Но у Дягилева зрели и другие планы, требовавшие участия Римского-Корсакова. В начале июня он начинает с ним переговоры: «Я очень надеюсь, что Вы нам в этом отношении поможете и что Вы поверите, что я всецело увлечен этой идеей, исполнение которой мне чудится блестящим»30. Последовали долгие обсуждения, и Дягилеву пришлось применить все свое обаяние для достижения поставленных целей.
Вскоре после первого письма Дягилева Римский-Корсаков пригласил его приехать к нему в имение, но тот отказался из практических соображений:
«…моя глубокая, так сказать, “маститая” опытность и знание российских железных дорог, и, главное, не железных дорог, и останавливает меня сейчас же пуститься в путь, тем более, что 1-го августа – не за горами. Пока же попробую ответить обстоятельно на Ваши вопросы»31.
Первым делом Дягилев стремился успокоить шовинистически настроенного Римского-Корсакова, уверял, что не будет идти на поводу у вкусов французов. Уговорить композитора оказалось непросто, поскольку Дягилев решил подвергнуть серьезным купюрам обе оперы. Когда в Байройте он впервые слушал оперы Вагнера, они показались ему чересчур длинными, с тех пор он считал необходимым сокращение партитур, во всяком случае малоизвестных:
«…Но только тот лектор хорош, который знает свою аудиторию, который не брезгует теми, к кому обращается[…] не надо забывать о том, что даже такой нетерпимый человек, как Вагнер, задумался перед постановкой “Тангейзера” в Париже и даже […] переработал его для Парижа»32.
Дягилев надеялся постепенно уговорить Корсакова убрать несколько важных сцен из той и другой оперы. В этом смысле просто бесподобен приводимый ниже отрывок из его письма от 11 августа. Высмеивая петербургскую постановку «Бориса Годунова» в летнем театре «Олимпия», Дягилев исподволь готовит почву для парижских планов. С гоголевской антилогикой он говорит о странной рек ламе, упоминает своего соседа по ряду, похожего на акцизного чиновника, и даже мелькавшего в соседней ложе жиголо, при этом словно невзначай подводит адресата к основной мысли: «Мусоргский и сам был за купюры в этой опере, так же надо поступить и с “Садко”»:
«Как вдруг, вчера отправился смотреть первое представление “Бориса” на сцене деревянного театра “Олимпия”. В общем исполнение было добропорядочное, а музыка гениальна, но […] я не запомню более томительно проведенного вечера. Нас усадили в достаточно удобные кресла в 8 1/2 час., когда уже довольно густо смеркалось, и отпустили в 12 1/2 час., когда все было уже окутано смрадным туманом, а по Бассейной катились нам навстречу ассенизационные обозы с дремлющими кучерами на козлах.
За это бесконечное время нам дали много музыкальных картин, несколько абсолютно совершенных музыкальных ощущений и при этом семь совершенно одинаковых антрактов, нестерпимо оскорбительных антрактов, когда перед нашим носом семь раз опускали занавес с объявлением о часах “Омега” и о слабительных пилюлях “Пинк”, когда мой сосед, акцизный чиновник, семь раз водил проветривать свою толстую супругу, а в ближайшей ложе семь раз появлялся все тот же молодой человек и семь раз говорил все те же банальности тем же барышням. Нет, это невыносимо, тут что-то не то, нет никакой архитектуры.
Когда меня около часу ночи наконец привезли домой и подняли на лифте до моей комнаты, я за тепловатым чаем развернул партитуру “Бориса”, изданную при жизни Мусоргского, и с некоторым недоумением прочел на первой ее странице следующие назидательные слова: “полное переложение, со включением сцен, не предполагаемых к постановке на сцене, для фортепиано с пением”.
Час был поздний, и я подумал, что у меня от утомления начались галлюцинации. Рядом лежал клавир “Садко”, но в него я уже не решился заглянуть. Что, подумал я, если и там будет напечатано настолько же неожиданное!»33
К неудовольствию Дягилева, седовласый композитор парировал на это с несокрушимой логикой:
«Автор не согласен на искажение своего произведения, тем более что, прилагая для этого свою авторскую руку, он навсегда освящает такое искажение, и опера всюду пойдет с безобразными урезками […] Если слабосильной французской публике во фраках, забегающей на некоторое время в театр, прислушивающейся к голосу продажной прессы и наемных хлопальщиков, “Садко” в его настоящем виде тяжел, то и не надо его давать.
Если моей опере суждено долго еще прожить на свете, не увянув и не зачахнув, то придет время, и французы прослушают ее, а если долгая жизнь ей не суждена, то от легковесного французского успеха она не станет долговечнее»34.
Замечания о «продажной прессе» и «наемных хлопальщиках» Дягилеву пришлись не по душе, ведь в этих словах, скорее всего, было немало правды. «Ваше последнее письмо меня очень огорчило, – писал он Корсакову. – Не буду отвечать на многое, что мне в нем было неприятно прочесть, а скажу только по существу»35. Дягилев сказал, что он поставит не всю оперу «Садко», а только несколько актов из нее (без купюр), чтобы сократить продолжительность спектакля хотя бы таким образом. Корсаков на это согласился, и Дягилев изложил свою идею дирекции оперы. 17 ноября Дягилев направил композитору из Парижа телеграмму, в которой сообщил о том, что договоренность достигнута и что премьера «Садко» запланирована на октябрь 1908 года.
[156] Больше о постановке «Садко» нам ничего не известно, но в итоге спектакль так и не был осуществлен Дягилевым.
[157] Конкретные причины этого остаются невыясненными, но можно предположить, что импресарио с каждым днем все яснее осознавал, что один «Борис» будет стоить уйму денег, и потому решил отказаться от «Садко».