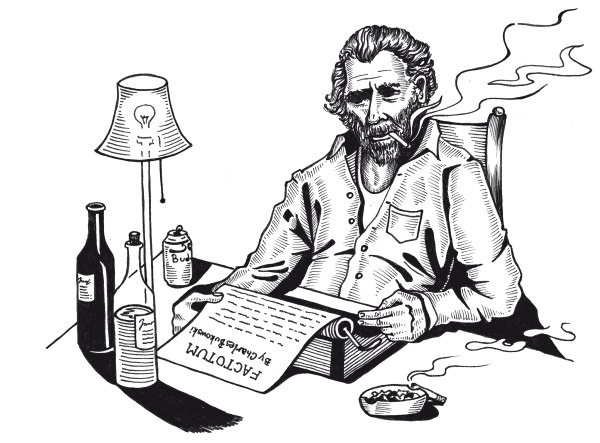Начать я хочу с темы тем, с этакой метатемы всего дальнейшего повествования: речь идет о литературе как о практике личного авторского мифотворчества, в которой писатель не просто продуцирует тексты, но посредством и прямо внутри этих текстов выписывает свою собственную образцовую идентичность. Иными словами, создает свою жизнь как объект литературного творчества.
Далее мы рассмотрим мифемы, тут и там возникающие в процессе всей этой мифопоэтической работы длиною в целую жизнь: писатель-изгой как голос исключенных из общества элементов; человек, цинично редуцирующий само человеческое к животному началу; автор-минималист, выстраивающий последовательную поэтику отрицания; гений-алкоголик, умоляющий свою субъективность в дионисическом опьянении.
Сложив это всё воедино, мы придем к выводам, которые будут, возможно, весьма неожиданными. В общем, мало нам не покажется.
Глава первая
Аутомифопоэтика
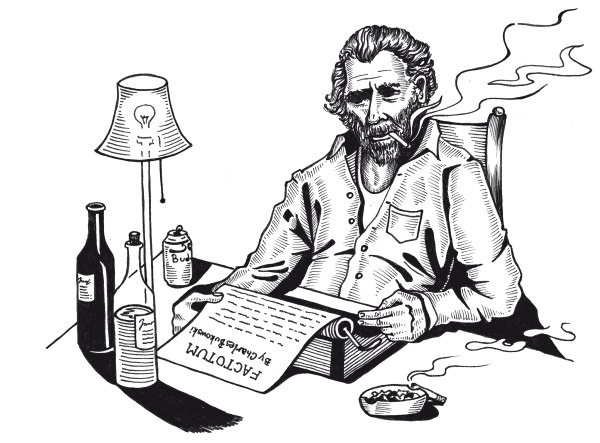
Индивидуальное мифотворчество. Это словосочетание поначалу отталкивает. Мы по старой привычке ассоциируем миф с коллективами, с крупными социальными единствами, объемными, как и все знакомые нам с детства мифы – большие рассказы, метанарративы, по Лиотару. А как насчет маленького рассказа, даже рассказика, скажем так, инфранарратива, этакой микромифологии?.. Если присмотреться получше, то непременно окажется, что история знает такие в достатке.
Большой мифологический рассказ вытесняет рассказы малые не столько из-за самой своей величины, сколько из-за исторического первенства, из-за инициирующего приоритета своего архэ, понятого сразу в двух смыслах: как начало и как власть. Мы знаем, что экстраполяция наших общих представлений об индивиде на древние общества как минимум проблематична, знаем, что древние, услышав от нас о само собой разумеющейся (для нас) субъективности., нас бы не поняли и в лучшем случае пожали бы плечами и что, наконец, именно коллектив, целое общество, может – с большими натяжками – выступить в качестве исторической аналогии модернистского субъекта. Именно коллектив, но никак не отдельный и независимый индивид.
Раз так, то как раз мифология как большой рассказ коллектива о самом себе – сразу и о своем прошлом, своем настоящем и своем будущем – играет в древних обществах ту самую роль, которой для нас соответствуют разные виды и практики индивидуальной субъективации, базовые фигуры человеческого представления о самом себе. Миф превращает коллектив в субъект, тогда как индивид, как часть коллектива, есть лишь осколок большой субъективности, не существующий в отдельности.
Субъект – как подлежащее для сказуемого, как актор для множества актов – требует для своего существования неких усилий по собиранию, апроприации и утверждению своих полномочий, возможностей, а вместе и средств сохранения себя в длительной целостности. Всё это и дает субъекту миф: он задает субъективности ее собственные границы (данный набор означающих относится к нашему коллективу, всё остальное – нет), определяет для коллектива область возможного и необходимого (перечень практик, список запретов), он, что важнее всего, держит всё это в единстве и длительности через свое постоянное воспроизведение. К примеру, в качестве рассказов у костра.
Так конструируется древняя коллективная идентичность. Именно через миф коллектив знает и помнит себя самого, через миф он существует и воспроизводится. Поэтому тексты, подобные «Илиаде» и «Одиссее», подобные «Теогонии» и «Трудам и дням», тексты, которые регулярно рассказываются, на многие века вперед конституируют отдельный и узнаваемый эллинский мир.
Впрочем, вопреки широко распространенному мнению о том, что Античность с ее монолитной и коллективной мифологической идентичностью совсем не знает отдельного индивида, этот индивид всё-таки появляется здесь – в зазоре, на уровне воображаемого, в литературе – достаточно рано, вот только функция у него в большей степени негативная, обозначающая не современную позитивную личность, но некий внутриколлективный конфликт или сбой. Индивид как оторванный от коллектива субъект – это скорее ошибка, нежели революционное пробуждение.
Особенно хорошо выявляется это в трагедии, где индивид, вступивший по разным причинам в конфликт с коллективом, испытывает от этого немыслимые страдания. При этом нельзя сказать, что Орест или Эдип – полноценные личности в модернистском, изрядно психологизированном и осовремененном смысле этого слова. Они – вполне коллективные и безликие персонажи, выделенные из общего целого и поэтому индивидуализированные, видимо, поневоле, в силу своей необычной функции, в силу самого места, которое они отныне занимают: включенное исключение, бытие на основании небытия, участие ввиду своей фатальной и нередуцируемой непричастности.
Верно сказать, что Орест и Эдип, а также многие прочие иже с ними – это еще не полноценный индивидуальный субъект, но само то место, которое уже готово и ждет грядущую, будущую личность. Трагедия как раз и готовит это пустое место, которое, в силу своей очевидной святости (то есть сакральности с ее противоположными значениями святого и проклятого), будет пустовать совсем недолго.
С этих времен, а это как раз знаменитое осевое время VI–V веков до нашей эры, мы наблюдаем возникновение – пока изолированно и маргинально – разнообразных практик субъективации, отныне уже не только коллективной, но местами и индивидуальной, практик, будто бы незначительных, но в итоге создавших фундамент того, что мы уверенно называем личностью.
К этим практикам, может быть в первую очередь, относится и возникновение философии, впервые научающей индивида обращать внимание на самого себя и таким образом отделять себя от мифологического коллектива (в императиве «познай самого себя» мы внезапно обнаруживаем, как это «себя» отграничивается, эмансипируется и обретает – через рефлексию – свой подлинно возвратный смысл).
Так, Пьер Адо, предложивший концепцию философии как (прежде всего) техники субъективации, замечает: «Философский акт располагается не только в порядке познания, но также в порядке „самости“ и бытия: это прогресс, заставляющий нас быть больше, делающий нас лучше. Это конверсия, переворачивающая всю жизнь, меняющая само бытие того, кто ее совершает. Она заставляет его перейти от неподлинного состояния жизни, омрачаемого бессознательностью, разъедаемого заботой, к подлинному состоянию жизни, в котором человек достигает самосознания, точного видения мира, внутреннего покоя и свободы»
[53]. Суть философской конверсии – выделение сознательного индивида из коллективного бессознательного не в результате трагической ошибки, но по велению истины.
К подобным практикам относятся и различные, не обязательно строго философские, практические и этические учения – бытовые и повседневные, ушедшие в народ элементы стоицизма и эпикуреизма, приучающие к заботе о себе, а также поздние религиозные и аскетические практики в русле неоплатонизма и только зарождающегося христианства. Ну и, конечно, литературная деятельность, более прочего способствующая индивидуальной субъективации пишущего субъекта – своего автора, в письме научающегося говорить «Я».