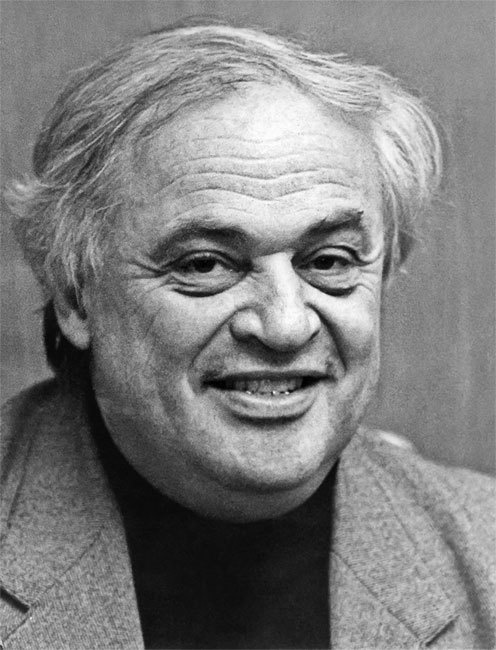Эйдельман Натан Яковлевич
[6]Впервые Эйдельмана я увидела у Сергея Александровича. Любя декабристов, я любила и Эйдельмана. Однажды в сопровождении Александра Свободина – театрального критика, который работал у моей свекрови на сценарной студии, – и прекрасной итальянки из Венеции Мариолиной, – о которой теперь весь интернет пишет, что она была возлюбленной Бродского, а тогда это была известная в Москве славистка, – он пришел в наш дом на Смоленском бульваре.
Мариолина хотела где-то встретиться с Эйдельманом, и был выбран наш дом. Он очень пылко отвечал на ее вопросы и вдруг стал рассказывать о каком-то неизвестном поэте ХХ века, который писал, служил, а потом исчез. Я не помню ни имени, ни обстоятельств, но помню, как он печально сказал, что хотел бы в будущем заняться литературной историей ХХ века и искать ушедших людей, раскапывать в архивах их утраченные биографии. Тогда эти слова проскользнули мимо моего сознания, но спустя годы, когда умерший Натан Яковлевич становился все дальше, его мечты о поиске людей ХХ века возвращались ко мне с удивительной настойчивостью. Возникало странное ощущение, будто он именно для меня, хотя он вряд ли обратил на меня внимание тогда, сказал эти слова. Потом стало приходить ощущение общей связанности, которое не покидает до сих пор.
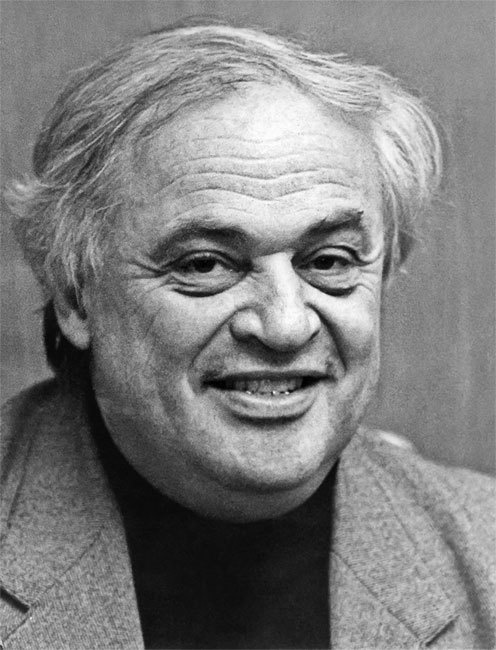
Натан Эйдельман.
1980-е
Второй эпизод был исторический. И тоже не обошелся без последствий. Это было в марте 1987 года в Малом зале Дома литераторов. Предполагалось обсудить тридцатые годы небольшой группой историков. Я еле втиснулась в зал. Пришлось стоять, мест не хватало. За столом сидело несколько человек, в том числе и Эйдельман. Выступающие говорили осторожно, не переходя за флажки. Говорили о том, что все и так знали. Непонятно, когда сорвало резьбу.
Это получилось как-то неожиданно, само собой. Кажется, кто-то из выступавших решил спросить о репрессиях. И тогда встала дама и сказала, что ее фамилия Мостовенко (потом я узнала, что это была вторая жена Данина), ее отца расстреляли, у нее есть свидетельство о смерти, но там одна дата расстрела, а в бумагах по реабилитации – другая. И кто ей скажет, какой дате верить? Потом встал очень пожилой человек с седой бородой и представился секретарем А. М. Горького. Звали его Илья Шкапа. Почему-то он стал говорить о деле, по которому его арестовали, и о том, что он так и не понял, что это было за дело.
И вдруг за спинами президиума поднялся юноша с дипломатом в руках и невозмутимо сказал, обращаясь к старику:
– Ваше дело за номером таким-то, вас обвиняли в том-то и в том-то. Но согласно вашему делу было то-то и то-то.
По залу пробежал даже не ропот, а какая-то волна недоумения и восторга. Я помню, что Эйдельман сделался пунцово-красным, тяжело задышал и как-то восторженно выкрикнул:
– Кто вы? Пройдите сюда, молодой человек!
Тот вышел.
– Я Дмитрий Юрасов, – ответил юноша, – историк-архивист.
Шкапа хотел что-то еще спросить, но началось невероятное. Люди вскакивали и кричали. Моя фамилия такая-то, что стало моим отцом, моей сестрой, матерью? Тогда этот юноша открыл портфель, вынул какие-то карточки и начал отвечать всем по очереди. Он переспрашивал, просил назвать дату расстрела, номер дела, дату реабилитации. Поразительно, что многие носили сведения про близких и родственников с собой. Потом он сказал, что у него есть восемьдесят тысяч карточек. Что он работает в архиве и тайно добывает там сведения. Кто-то крикнул из зала:
– Не надо, не говори!
Все это время у Эйдельмана было абсолютно счастливое и торжествующее лицо.
Где-то в воздухе зала, в шелесте голосов вдруг почувствовалось едва заметное изменение воздуха истории.
Вольпин Михаил Давыдович
[7]Высокий седой старик пришел к нам в дом на Смоленском бульваре с одной целью – рассказать о своем близком друге и соавторе, уже покойном к тому времени Николае Эрдмане. Конечно, назвать Вольпина стариком было невозможно. Он был очень красивый, с прямой спиной и очень яркими живыми глазами. Он начал рассказ со своего ареста.
В первой половине 1930-х годов его арестовали в первый раз. Вольпин отбывал заключение и ссылку с троцкистами, которые и в тюрьме продолжали спорить, ругаться и драться с большевиками-ленинцами и эсерами, – их еще было немало в то время. Когда же он отбыл срок, то вернулся домой в Москву. Шел 1937 год. В поезде вместе с ним оказался сотрудник НКВД, ехавший из Архангельска в отпуск. Насмерть перепуганный Вольпин сказал своему соседу, что он обычный сценарист и возвращается из командировки домой. Чекист много и безобразно пил и требовал, чтобы тот пил вместе с ним. Так они ехали несколько суток. В какой-то момент полупьяный сосед проникся к Вольпину симпатией и стал говорить ему, что прекрасно понимает, откуда тот едет, и хотел бы дать ему добрый совет. Вольпину нельзя ни в коем случае возвращаться в Москву, потому что ходить на воле ему недолго. Он видит и по его лицу, и по глазам, что тот дойдет до первого угла и будет снова арестован. Чекист взывал к его разуму, пьяно плакал, размазывая по щекам слезы, и звал его к себе в Архангельск, клялся, что спрячет от неминуемой гибели. В конце концов признался, что работает… палачом, то есть комендантом и расстреливает сам. Вольпин говорил, что не мог дождаться, когда будет Москва и они уже наконец расстанутся. Палач в конце поездки был настолько пьян, что его выносили из поезда.
В начале войны Вольпин оказался с Николаем Эрдманом – другом и уже постоянным соавтором – в Рязани, откуда они с невероятными приключениями пробирались к Ставрополю и дошли до действующей армии. Там их взяли на работу в Ансамбль песни и пляски НКВД, где Берия собирал самых талантливых режиссеров, сценаристов и актеров. Об Эрдмане Вольпин говорил с невероятным почтением, считая его великим и непревзойденным драматургом, недооцененным современниками. Под конец он рассказал нам, что в доме престарелых в полном одиночестве доживает свои дни Вероника Витольдовна Полонская, последняя любовь Маяковского, и что они с товарищами собирают ей деньги. Так странно было слышать, что он говорил о своем долге перед Маяковским, которого знал… Но это все было уже под занавес. Он оставил нам машинопись пьес Эрдмана “Мандат” и “Самоубийца”. Пьесы тогда не показались мне ни смешными, ни гениальными. Теперь понятно, что без контекста времени, который мы не знали, понять их было невозможно.
А от Вольпина осталось чувство пронзительной ноты. Он очень скоро погиб в автомобильной катастрофе. Все, кто ехал с ним, остались живы, не получив даже царапины. А я часто ловила себя на мысли: спросить бы у Вольпина про Есенина, Мандельштама, Ахматову – он всех видел и всех знал. Но он считал себя лишь младшим другом великого драматурга-сатирика Николая Эрдмана.