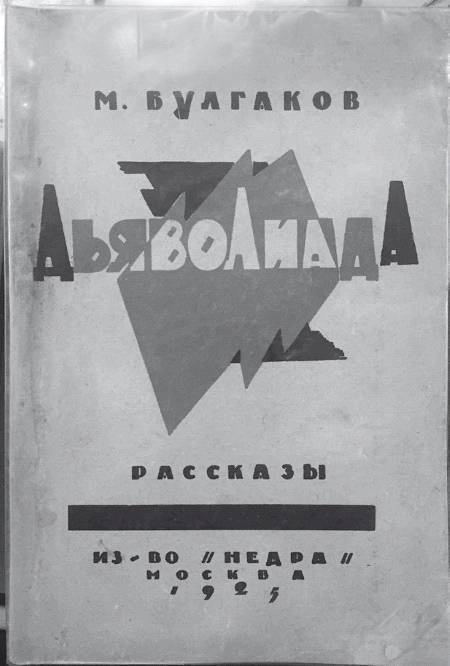В самом деле, П рофессор П ерсиков живёт на П речистенке в квартире из П яти комнат — сразу четыре «П»! Изучает он П ресмыкающихся. Институтского сторожа, помогающего П ерсикову, зовут П анкратом. Второсте пенные персонажи носят фамилии: П ортугалов, П таха‑П оросюк, П олайтис, П опадья Дроздова — опять всё те же «П», «П», «П»!
А уж заканчивается повесть и вовсе загадочной фразой:
«… покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков».
Взяв первые буквы слов, получим, казалось бы, полную бессмыслицу: п. п. В. И. П. Но приглядимся повнимательнее. Инициалы героя (а это ленин ские инициалы: В.И.) с обеих сторон обступают буквы, безумно похожие на пару столбов с перекладиной, а сказать проще, на виселицу: П. Но это — начальная буква слова «партия».
Не подсказывал ли Булгаков этой буквенной шарадой, как, по его мнению, следует поступить с создателями кроваво‑красных лучей, то есть с теми, кто принёс стране страдания и беды?
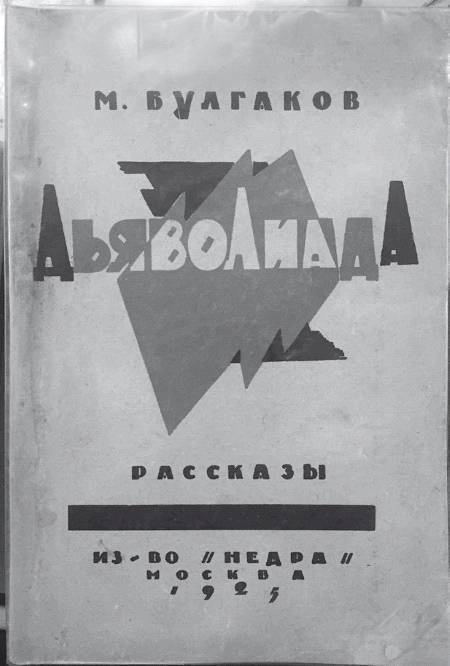
Сборник рассказов М.Булгакова «Дьяволиада», 1925 г.
Сам писатель эту свою подсказку считал, видимо, достаточно надёжно зашифрованной. И потому был абсолютно уверен в том, что её вряд ли кто сумеет разгадать. Иначе не закончил бы повесть самонадеянной фразой, больше смахивающей на снисходительное разъяснение того, почему никому и никогда не удастся подобрать ключ к его, булгаковскому, шифру:
«Очевидно, для этого нужно было что‑то особенное кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатъевич Персиков».
Повесть‑гротеск Булгакова была опубликована в шестой книжке альманаха «Недра» за 1925 год.
А.М. Горькому, который жил тогда на итальянском острове Капри, «Роковые яйца» понравились. Он даже сказал, что они «остроумно и ловко написаны». С восторгом встретил новую повесть и писатель С.Н. Сергеев‑Ценский, который заметил: «„Роковые яйца „— единственное произведение в наших „Недрах“, которое не скучно читать!»
Итак, произошло, казалось бы, невероятное: советское издательство выпустило в свет две булгаковские повести, полные ужаснейшей крамолы. Ею были пропитаны не только слагавшие эти повести слова, но и буквы. А все вокруг делали вид, что не замечают этого. Годы спустя литературный критик К.Л. Зелинский, вторя уже цитировавшемуся нами Леопольду Авербаху, скажет в одной из статей:
«Писал о революции и М.Булгаков, но он видел в ней лишь „идиотизмы“, хаос, чепуху, бюрократизм, гротеск („Дьяволиада“, „Роковые яйца“)».
Но подобные высказывания появятся не скоро. Пока же Булгаков мог торжествовать. Ещё бы, он водил за нос церберов могучей державы. Его тайный план мщения советской власти потихоньку осуществлялся. И от этого писательская голова начинала кружиться ещё больше.
Впрочем, кружилась она и по другой причине.
Здоровье и нездоровье
В дневнике Булгакова есть подробное описание ощущений, которые он испытал в конце 1924 года, когда однажды выступил в «Гудке» с речью:
«23 декабря. Вторник. (Ночь на 24‑е).
Я до сих пор не могу совладать с собой. Когда мне нужно говорить и сдержать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой, и вспомнил вагон в конце 20‑го года…»
Далее Булгаков описал своё (уже упоминавшееся нами) состояние, когда в январе 1920 года он заболевал возвратным тифом, и перед его глазами всё двоилось. Во время выступления в «Гудке» он смотрел в лицо своему собеседнику (некоему Р.О.), и точно так же, как в далёком 20‑ом году…
«… видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал… Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р.О., одновременно — вагон, в котором я поехал не туда, куда нужно, и одновременно же — картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот».
Навязчивые «видения», которые завершались возникновением отвратительного самочувствия, были явным следствием недавнего морфинизма. Болезненная зависимость от наркотического средства вроде бы прошла, а незаживающий шрам на психике продолжал беспокоить.
Портило настроение и постоянное безденежье:
«Денег сегодня нигде не достал, поэтому приехал кислый и хмурый домой… Дома впал в страшную ярость…»
Повышенная возбуждённость не покидала Михаила Афанасьевича и в следующие дни:
«В состоянии безнадёжной ярости обедал у Валентины…» Новая запись:
«Сегодня ещё в ярости, чтобы успокоить её, я перечитывал фельетон некоего фельетониста 70‑ых годов».
Лишь неимоверным усилием воли ему удавалось укрощать «яростные» вспышки. Запись от 24 декабря 1924 года:
«Сейчас я работаю совершенно здоровым, и это чудесное состояние, которое для других нормально, — увы — для меня сделалось роскошью, это потому, что я развинтился несколько. Но, в основном, главное, я выздоравливаю, и силы, хотя и медленно, возвращаются ко мне. С нового года займусь гимнастикой, как в 16‑ом и 17‑ом году, массажем, и к марту буду в форме».
Но негативные явления жизни (а с ними приходилось сталкиваться постоянно) продолжали терзать душу,
«26 декабря. (В ночь на 27‑ое).
Только что вернулся с вечера у Ангарского — редактора „Недр“. Было одно, что теперь всюду: разговоры о цензуре, нападки на неё, „разговоры о писательской правде“ и „лжи “…Я не удержался, чтобы несколько раз не встрять с речью о том, что в нынешнее время работать трудно, с нападками на цензуру и прочим, что вообще говорить не следует».
Возникавшие проблемы Булгаков обсуждал и с женой, что тоже имело негативные последствия — из‑за этих разговоров они не высыпались.
«(В ночь на 28 декабря).
В ночь пишу потому, что почти каждую ночь мы с женой не спим до трёх, четырёх часов утра. Такой уж дурацкий обиход сложился. Встаём очень поздно, в 12, иногда в 1 час, а иногда и в два дня. И сегодня встали поздно и вместо того, чтобы ехать в проклятый „Гудок“, я поехал к моей постоянной зубной врачихе, Зинушке».
Далее Булгаков с удовлетворением записывал, что на Кузнецком мосту обнаружил у газетчика 4‑ый номер журнала «Россия»:
«Там первая часть моей „Белой гвардии“, т[о]е[сть]не первая часть, а треть. Не удержался, и у второго газетчика, на углу Петровки и Кузнецкого, купил номер. Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу. Больше всего почему‑то привлекло моё внимание посвящение. Так свершилось. Вот и жена моя…»