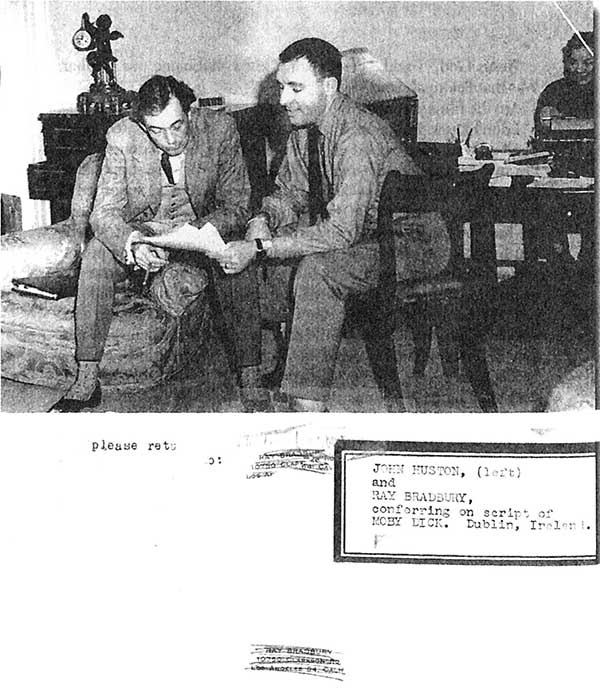И ревом возвещает о своей любви.
Вот тут бы фильм остановить!
Убрать последнюю катушку!
И я смотрел бы на него,
Застывшего на месте,
Владыку острова и мира,
И господина моего,
И потрошителя аэропланов,
Швыряющего оземь летчиков.
Я не увижу снова низвержение
зверя-исполина.
Благодарение Богу за фильмы,
Воскрешение которых, под стрекот кинопроектора,
Взывает к жизни свет: катушка первая. И Конг.
Смотрите же!.. Пришествие. Второе.
II. Тигр
[108]
Или у подножия лестницы мы освещаем
сцену
И смотрим вверх на Норму Десмонд,
Всю в грезах и алмазах,
Что горят, переливаясь как софиты на балу,
Облаченную в безумие, как в мантию,
Сидящую на ней безукоризненно,
В безумных грехах, которые захватывают
звезды и снова зажигают.
Мы шепчем… Мы взываем: «Готовься…
Норма…»
Мы бормочем: «к съемке крупным планом…»
Договариваем мы.
И Норма, утопающая в прошлом,
расслышала призыв
Сойти с ума, но лишь на время, с умыслом.
Ее улыбка искривилась, затем застыла.
Взгляд ее блуждает,
Но быстро заостряется, находит:
Тот, кто снизу ее звал, – ее возлюбленный
пропавший,
Любовью запоздалой ослепленный, взывает
к ней:
«Приступим. Начинаем. Играй.
И возвращайся к жизни».
И Норма в обличье Нормы, в лабиринте
Нормы встает уверенно
И, восставая, вспоминает роль, в движенье
приходя,
Спускаясь по ступеням.
А репортеры, онемев, играют свиту.
Она ж последняя, погрязшая в любви,
царица.
У всех тут слезы в три ручья. Она берет их,
Обвивая вкруг шеи, как законный дар,
Спускается по лестнице под грянувшие
звуки музыки.
Она туманит, украшает кадр.
Она переполняет собой пространство.
Ею напоены душа и сердце.
Уснули свет и время.
Начертано: КОНЕЦ,
И титры мы прочесть не в силах —
Во тьме финальной сцены мы тронулись рассудком.
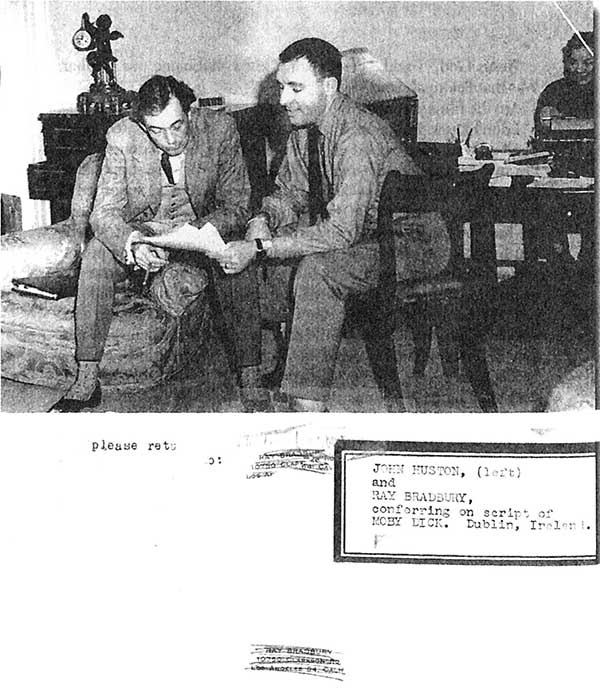
Джон Хьюстон (слева) и Рэй Брэдбери обсуждают сценарий «Моби Дика». Дублин. Ирландия
Черт бы тебя побрал, Сэм! Отвяжись ты от меня, наконец!
Сколько лет прошло, но каждый раз я вспоминаю тебя со смешанным чувством нежности, гнева, досады и пронзительной печали. Конечно, услышав такое, ты бы рассмеялся, недоумевая, какого черта я проявляю такое внимание к твоей персоне. Во всяком случае, мне так всегда казалось.
Когда я думаю о тебе, то на ум приходят цветы, посланные мне тобою со словами любви на каком-то этапе нашей дружбы. Я тогда поймал себя на том, что ведь еще ни разу мужчина не дарил мне цветов, и весьма немаловажным было то обстоятельство, что их преподнес именно ты.
А когда впоследствии нашей дружбе пришел конец, или тебе так померещилось, ты прислал мне маленький кактус с банкой вазелина и сопроводительной запиской: «Разрежь этот кактус на три части. Одну тебе. Одну Чартоффу. Одну Винклеру»
[110].
Примерно в это же время ты меня обозвал «перебежчиком». А я написал тебе в ответ, что ничего подобного, это ты перебежал от нас, причем давно.
Но лучше всего я помню молодого студента, который возник на пороге моей квартирки-коробочки за 30 долларов в месяц в Венис-бич, штат Калифорния, однажды прекрасным летним днем в 1949 году. Студент хотел снять любительский фильм по мотивам одного из моих рассказов для своего курса по кинематографии в университете Южной Калифорнии. Я согласился. И студент ушел.
Двадцать лет спустя я встретил тебя впервые за обедом, Сэм, и ты сел, посмотрел на меня и спросил:
– Вы помните меня?
Я сморгнул.
– Перед вашей дверью. Венис-бич, 1949.
– Боже мой! – воскликнул я. – Пекинпа. Вот откуда я вас знаю. Так вы и есть тот самый Пекинпа?
Достаточно ли фильмов ты снял?
Я не знаю. Надеюсь, да. Не мне судить. Может, мне хотелось большего. Может, мне хотелось стать причастным к этому большему. Может быть… Да, черт возьми, конечно, хотелось! Я зол на тебя, потому что теперь этому уже никогда не бывать. Нам было суждено вступить в некий зыбкий брачный союз, и предполагалось, что от этого союза должны народиться дети. Разве, в конце концов, не в этом смысл любви? Но в какой-то момент ты окончательно разуверился во мне, когда я признался тебе в любви. Может, ты слишком часто выслушивал такие признания от негодяев, лжецов и профессиональных аферистов с непринужденными улыбочками и акульими глотками? Может, ты никогда не верил этому, кто бы это тебе ни говорил. Может, ты никогда не любил Сэма Пекинпа так, как ему следовало любить себя, так, как мы все должны любить себя, с уважением и скромным своекорыстием, без цинизма, не связанного с нашей душой, во всяком случае. Бог свидетель, я старался, чтобы ты увидел себя моими глазами, таким, каким другие люди отказывались тебя видеть. Но ничего не получилось, а если получалось, то за ночь ты все забывал. Вот тебе и алкоголь – вечный растворитель, моющее средство, начисто стирающее память, вместо того чтобы освежать ее и обеспечивать безупречность содержащихся в ней файлов. Сэм, ты запамятовал. Вот в чем заключается великая истина. Ты просто позабыл. Вот в чем твоя беда. А я все помню. Я помню тебя. Я помню нашу дружбу. Ее никто у меня не отнимет.