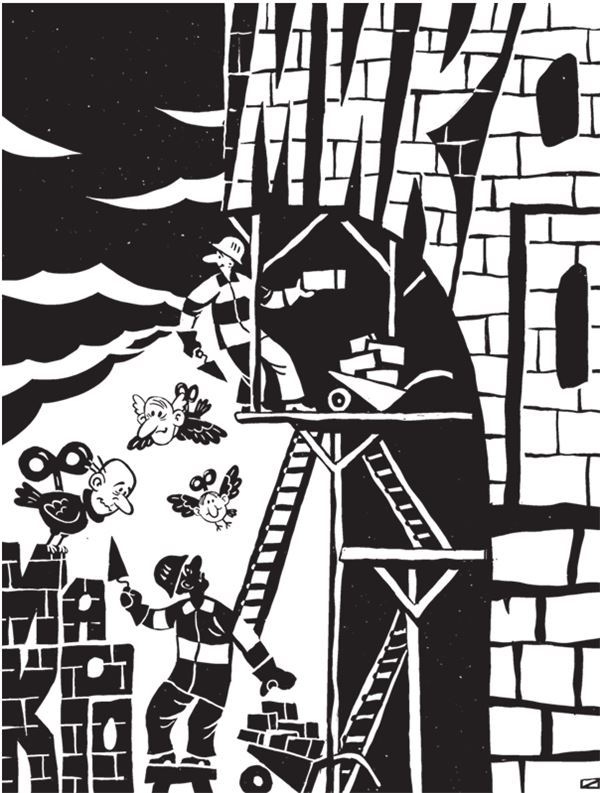У земноводных круги кровообращения уже разделены: в левое предсердие поступает только кровь из легких, в правое — из всех остальных тканей. Однако затем кровь из обоих предсердий смешивается в единственном желудочке и оттуда разносится по всему телу. На первый взгляд это выглядит шагом назад по сравнению с рыбами: вместо чистой артериальной крови ткани получают ее смесь с венозной. Но вспомним, что амфибии дышат не только легкими, но и кожей, причем нередко именно она становится главным источником кислорода (например, у замершей под водой лягушки)
[225]. Кожа покрывает все тело животного, так что выделить идущие к ней артерии и вены в отдельный круг кровообращения нереально — для этого надо создать две параллельные кровеносные системы.
Пресмыкающиеся отказались от кожного дыхания, но унаследовали от амфибий трехкамерное сердце и смешанную кровь в артериях. Вся эволюция кровеносной системы рептилий — это история борьбы за разделение кровяных потоков. У одних представителей этого класса можно найти абсолютно амфибийные трехкамерные сердца, у других посередине единственного желудочка намечается перегородка, у третьих она уже вполне выражена… У крокодилов она почти полностью делит желудочек надвое, делая их сердце практически четырехкамерным. Настоящими же четырехкамерными сердцами обзавелись потомки рептилий — млекопитающие и птицы. Результатом полного разделения артериальной и венозной крови стала интенсификация обмена веществ, позволившая этим животным перейти к теплокровности.
У зародышей птиц и млекопитающих сердца закладываются такими же трехкамерными, как у амфибий и рептилий, но затем в них появляется перегородка между желудочками. Группа ученых из США, Канады и Японии попыталась выяснить, как это происходит и чем регулируется. Исходным пунктом исследования стал ранее установленный факт: у всех наземных позвоночных в тканях формирующегося сердца активен ген Tbx5. Причем если у амфибий эта активность примерно одинакова во всех участках желудочка, то у птиц и млекопитающих она максимальна в левой части зачатка и минимальна — в правой. Снижение же его активности вызывает дефекты в развитии перегородки.
Для начала авторы работы посмотрели, как ведет себя этот ген у рептилий — ящериц-анолисов и черепах. Дело в том, что у анолиса сердце чисто трехкамерное, у черепах же в нем есть неполная перегородка. Выяснилось, что поначалу у тех и других Tbx5 равномерно активен по всему желудочку. Но у черепах (в отличие от анолисов) ближе к концу формирования сердца активность гена в левой части начинает заметно превышать активность справа.
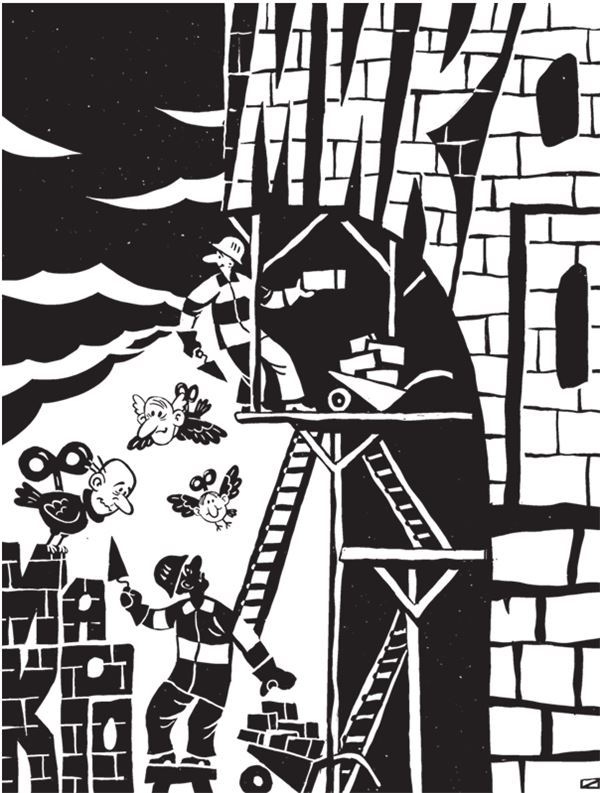
Тогда ученые создали трансгенных мышей, у которых активностью гена Tbx5 можно было управлять. Выяснилось, что если отключить его во всем зачатке, у мышиных эмбрионов развивается трехкамерное «лягушачье» сердце без всяких намеков на перегородку. И то же самое происходит, если этот ген одинаково активен справа и слева.
Разумеется, выяснение роли гена Tbx5 — это еще далеко не ответ на вопрос, какие изменения в каких генах превратили кровеносную систему рептилий в нашу. Формирование перегородки регулируется не только этим геном (в чем авторы работы убедились в специальном эксперименте), да и преобразование кровеносной системы не сводится к одному лишь разделению желудочков — нужно еще, в частности, отделить легочную артерию от общего артериального ствола и т. д. Неизвестно пока и то, как каждая конкретная клетка сердечного зачатка узнает, какой должна быть в ней активность Tbx5. Словом, даже в конкретном вопросе о возникновении четырехкамерного сердца еще очень многое предстоит узнать. И все же подобные работы (а их, как говорилось выше, сейчас уже довольно много) постепенно позволяют связать знания о генетических механизмах эволюции со знаниями о макроэволюционных преобразованиях.
Измеритель родства
Другой мостик такого рода перекидывает молекулярная филогенетика. Мы уже касались (см. главу 7) этого направления исследований — одного из наиболее бурно развивающихся в современной биологии. Фактически она уже совершила настоящую революцию (или, если угодно, целую серию революций разного масштаба) в самой старой и самой традиционной из всех наук о живом — систематике. Об этом говорят часто и много, в том числе и в популярной литературе. Гораздо реже говорят, что эта революция не сводится к более или менее радикальной перекройке филогенетических деревьев разного калибра (опровержения классических представлений о происхождении членистоногих от кольчатых червей и сближения первых с круглыми червями; доказательство происхождения китообразных от парнокопытных и т. д.). Революция, устроенная в систематике молекулярно-генетическими исследованиями, состоит прежде всего в том, что они разорвали порочный круг, лежавший в самом основании этой дисциплины.
Со времен триумфа эволюционной идеи в биологической систематике утвердилось (и позднее уже не подвергалось пересмотру) представление, что она должна отражать эволюционное родство. Виды, принадлежащие к одному роду, — это виды, отделившиеся друг от друга позже, чем виды из разных родов одного семейства; те, в свою очередь, разделились позже, чем виды из разных семейств, и т. д. Но мы не присутствовали при их эволюции и о родстве можем судить только по их сходству. Однако, как мы знаем, сходные признаки могут возникать и независимо в неродственных группах. Скажем, листья рябины и пижмы до того похожи друг на друга, что пижму в некоторых местных диалектах называют «рябинкой» (тем более что и соцветия пижмы формой напоминают рябиновую гроздь). Но эти растения связаны лишь весьма отдаленным родством, и у каждого из них есть более близкая родня с листьями совсем иной формы. Поэтому систематики в своей работе учитывают не все характерные признаки данного вида или группы, а лишь «имеющие таксономическое значение» — то есть отражающие именно родство.
Но при этом неизбежно получается замкнутый круг: о таксономическом весе признака мы судим по тому, может ли он возникнуть или исчезнуть независимо в неродственных группах, а о родстве групп — по тому, насколько у них сходны таксономически значимые признаки. Конечно, сравнительная анатомия, морфология и систематика родились не вчера и за столетия своего развития составили некоторые представления о том, на какие признаки опираться можно, а на какие — нет. И все же нередко случается, что одни признаки (скажем, морфология взрослой формы) указывают на родство изучаемых существ с одной группой, а другие (например, особенности эмбрионального развития) — на родство с другой. Но не могли же эти создания произойти сразу от двух неродственных групп! Получается, что если морфология права, то эмбриологические сходства в данном случае не имеют вовсе никакого значения — и наоборот. Между тем и те и другие признаки считаются систематически значимыми, и на их сходстве или различии основаны представления о родственных связях многих других групп животных.