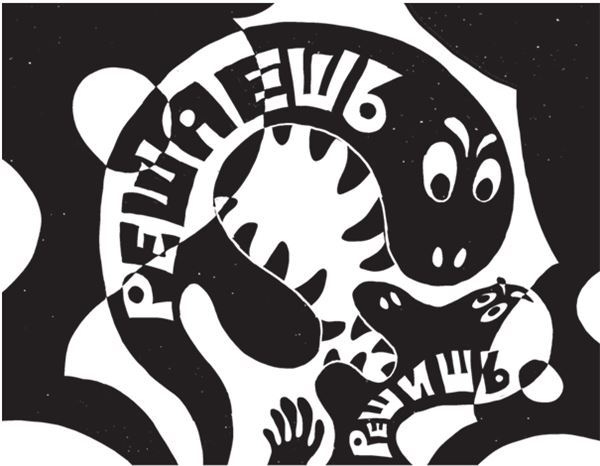Нас, однако, сейчас интересуют не победы компаративистики сами по себе, а то, какую роль в ее развитии сыграло влияние дарвинизма. Восторг, который вызвала теория Дарвина у Шлейхера и других лингвистов, оказался вполне оправданным: эволюция языков соответствовала дарвиновским схемам едва ли не еще точнее, чем собственно биологическая эволюция. Древние и средневековые документы в изобилии предоставляли доказательства изменения языков с течением времени (скажем, изменения греческого языка можно проследить на протяжении более чем двух с половиной тысячелетий — от времен Гомера и до наших дней, причем весь этот ряд будет непрерывным). При этом эволюция языков была строго дивергентной (как это и постулировали Дарвин и Уоллес для эволюции организмов): у каждого языка был один и только один непосредственный предок
[230]. Если два народа сливались в один, то язык объединенного этноса никогда не представлял собой чего-то похожего на лишайник (о «составной», симбиотической природе лишайников в конце XIX века ученые уже знали): это всегда был язык только одного из исходных народов. Правда, языки сплошь и рядом заимствовали друг у друга слова — чему в биологической эволюции аналогий вроде бы не находилось (о горизонтальном переносе генов тогдашняя наука ничего не знала — как и вообще о генах). Но даже языки, в которых больше половины слов были заимствованными, сохраняли свою идентичность, и их принадлежность к той или иной группе определялась уверенно и однозначно. Явления конвергенции (то есть неродственного сходства, приобретенного в результате независимой эволюции) в лингвистике наблюдались, но никогда не заходили так далеко, как в биологии — где систематикам то и дело приходилось убеждаться, что существа, которых они считали несомненными родственниками, на самом деле имеют совершенно разное происхождение. В общем, эволюция языков выглядела не просто очень похожей на эволюцию живых форм, но как бы представляла собой ее идеальную, очищенную от всех помех и маскирующих влияний модель — то, что сейчас назвали бы «сферической эволюцией в вакууме».
Не удивительно, что представление о полном подобии биологической и лингвистической эволюции стало общим местом в обеих науках. За последние полтора века об этом подобии писали бессчетное число раз. При этом странным образом практически никто из писавших о нем даже не задавался вопросом: а какова причина этого сходства?
В самом деле, картина биологической эволюции определяется ее механизмом — естественным отбором, возникающим из сочетания случайных наследственных изменений и конкуренции за ограниченный ресурс (борьбы за существование). Но что служит аналогом естественного отбора в эволюции лингвистической? Неужели формы языка подвержены случайным изменениям? Если в отношении фонетических элементов это еще можно себе представить (в самом деле, разные люди выговаривают каждый звук немного — а то и сильно — по-разному), то представить себе «случайное изменение» грамматической конструкции или падежной формы довольно затруднительно.
Конкуренцию в языке тоже можно представить: синонимы, словообразовательные модели, парадигмы склонений и спряжений, фразеологические обороты конкурируют за употребление их носителями в речевой практике. Мы иной раз воочию видим эту конкуренцию: скажем, в русском языке ударное «-а» уже давно теснит безударное «-ы» в качестве окончания множественного числа существительных (еще каких-нибудь лет сто назад общепринятой формой множественного числа слова «дом» было «дóмы» и только кто-то вроде булгаковского Шарикова мог сказать «домá»). А меньше двухсот лет назад Пушкин возмущался странной манерой спрягать глагол «решать»: решаю, решаешь, решает — и напоминал читателям правильную форму: решу, решишь, решит («„решу“ спрягается как „грешу“»). Но даже авторитет великого национального поэта не помог: в языке утвердилась «неправильная» модель спряжения, вытеснив «правильную» в будущее время (чем не разделение экологических ниш в полном соответствии с уже знакомым нам принципом Гаузе?). И надо сказать, что старой модели еще повезло: из истории языка мы знаем, что подобная конкуренция может заканчиваться полным вымиранием проигравшей формы — как вымерло в русском языке древнее, унаследованное еще от праиндоевропейского языка, слово «пех», вытесненное словом «нога»; как вымерли двойственное число и звательный падеж. Правда, в такой конкуренции участвуют не «языковые особи» (в лингвистике аналогом особи можно считать индивидуального носителя языка — точнее, ту индивидуальную версию языка, которой этот носитель пользуется), а элементы самого языка, но в первом приближении этой тонкостью можно пренебречь
[231].
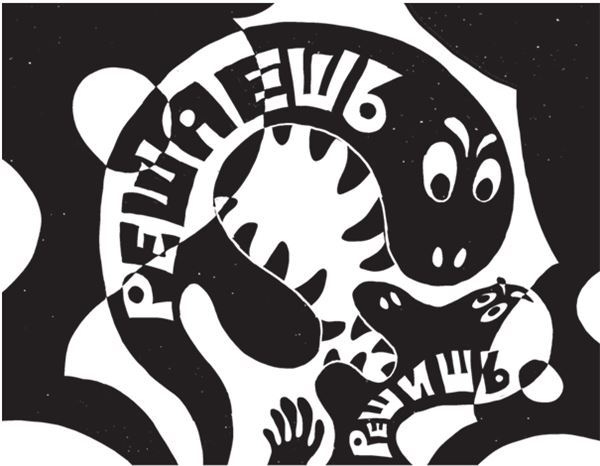
Итак, допустим, с конкуренцией в языке все в порядке, но вот вопрос: что считать аналогом приспособленности? К чему приспосабливаются слова, части слов, грамматические конструкции и формы? Чем форма «решаю» выгоднее формы «решу»? В чем состояла слабость звательного падежа — особенно если учесть, что потребность в таком падеже у языка явно есть
[232]?
Можно, конечно, сказать: раз, мол, какой-то элемент языка вытесняется другим, значит, этот другой более приспособлен. Но «приспособленность», понимаемая таким образом, — это та самая тавтология, в которой любят «уличать» дарвинизм его идейные противники: дескать, дарвинисты утверждают, что выживают и размножаются наиболее приспособленные, но при этом приспособленными считают тех, кто успешнее других выживает и размножается — создавая тем самым замкнутый логический круг
[233]. В биологии этот упрек несостоятелен: в целом ряде случаев (см. главу «Отбор в натуре») мы можем указать на конкретные качества, позволяющие обладателям одних генотипов выживать и размножаться успешнее, чем обладателям других, и доказать это прямыми экспериментами. Проще говоря, мы можем сказать, чем именно для данного вида птиц толстый клюв лучше тонкого (или наоборот), а для данного растения неопадающие семена лучше опадающих. Можем ли мы — хотя бы опять-таки для некоторых случаев — указать что-то подобное для конкурирующих элементов языка?