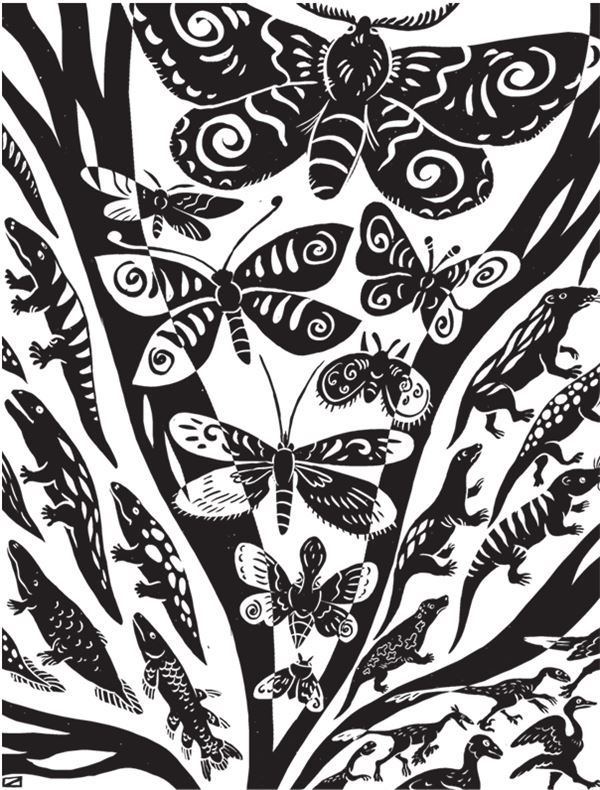Опыты Шапошникова получили немалую известность, но долгое время не имели никакого теоретического объяснения
[59]. Десятилетиями они рассматривались как своего рода курьез, уникальный случай
[60] (тем более что работы эти были выполнены в СССР в те времена, когда хотя Лысенко и не имел уже абсолютной власти над советской биологией, его сторонники все еще численно преобладали в исследовательских учреждениях, и работ, исходивших из его «теорий», в советской научной прессе печаталось немало). Однако много позже зарубежные ученые воспроизвели их на других видах насекомых.

Более того — случаи «повторного видообразования» были обнаружены и в природе. Так, например, на небольших островах Неприступный и Соловей архипелага Тристан-да-Кунья в южной Атлантике живут вьюрки. На каждом из островов встречаются две разновидности этих птиц, хорошо различающиеся по размерам клюва — что и не удивительно, поскольку они питаются семенами разного размера. Большеклювые вьюрки с Неприступного внешне совершенно неотличимы от большеклювых вьюрков с Соловья. То же самое можно сказать и о тонкоклювых птицах с обоих островов. Зоологи нисколько не сомневались, что каждая из этих форм представляет собой единый вид, распространенный на обоих островах. Однако в 2007 году южноафриканские биологи сравнили геномы этих птиц. И оказалось, что большеклювые вьюрки Неприступного генетически гораздо ближе к своим тонкоклювым землякам, чем к большеклювым вьюркам Соловья, а последние, в свою очередь, более близкая родня местным тонкоклювым вьюркам.
Видимо, оба острова были заселены единым предковым видом, который на каждом из них независимо разделился на две формы — каждая из которых удивительно похожа на свой аналог с другого острова.
Но в конце концов, неоднократное возникновение даже чрезвычайно сходных форм на базе одного и того же вида — это еще куда ни шло. В этих случаях отбору приходится иметь дело с одним и тем же исходным материалом — накопленной мутационной изменчивостью (см. начало этой главы). Даже разные, но очень близкие виды теоретически могут породить очень сходные формы — ведь и у них внутривидовое генетическое разнообразие в значительной мере остается общим. Но этими соображениями никак нельзя объяснить широкое распространение параллелизмов и конвергенций
[61] в эволюции обширных систематических групп — классов и типов. Между тем палеонтологи все чаще стали замечать: накануне появления больших и славных групп их отдельные признаки возникают независимо в разных, не очень родственных ветвях группы-предка. Например, всем известный и вошедший во все учебники археоптерикс при детальном исследовании оказался вовсе не предком современных птиц, а «конкурирующей моделью» — представителем совсем другой ветви юрских рептилий-архозавров, независимо освоившей полет на перьевых крыльях. Сегодня палеонтологам известно как минимум пять таких эволюционных попыток, и представителям по крайней мере двух ветвей (настоящих птиц и так называемых энанциорнисов, к которым относится и археоптерикс) удалось реально подняться в воздух.
И птицы далеко не уникальны в этом отношении. Когда ученые попытались разобраться, от какой же именно группы триасовых рептилий произошли современные млекопитающие, выяснилось, что различные признаки будущих млекопитающих (специфическое строение слуховых косточек, мягкие губы и т. д.) возникали независимо — хотя и порознь — в шести разных группах зверозубых ящеров (териодонтов). Одна из них, наиболее успешно продвигавшаяся по этому пути, дала начало почти всем современным млекопитающим — как плацентарным, так и сумчатым. От другой до наших дней дожили утконосы и ехидны — странные существа, откладывающие яйца, но выкармливающие детенышей молоком. Еще четыре вымерли полностью — но они существовали довольно долго, более-менее успешно конкурируя с будущими победителями.
Академик Леонид Татаринов, описавший эту «гонку в млекопитающие», назвал ее «параллельной маммализацией териодонтов». Позднее выяснилось, что подобные «-зации» предшествуют появлению на свет очень многих крупных групп животных и растений. Например, те же териодонты принадлежат к ныне полностью вымершей ветви рептилий — синапсидам, предки которых, вероятно, приобрели характерные черты рептилий независимо от предков современных пресмыкающихся. (Вообще, судя по всему, окончательный выход позвоночных на сушу происходил широким фронтом: ключевые черты рептилий независимо приобрели потомки сразу нескольких групп амфибий. И хотя большинство из них впоследствии вымерло, даже нынешние пресмыкающиеся — потомки разных групп земноводных.) Еще раньше, в девонском периоде проходила «тетраподизация» кистеперых рыб — сразу несколько групп этого надотряда начали независимо приобретать признаки четвероногих существ. А в конце периода юрского разные семейства голосеменных растений начали рваться в цветковые. И словно бы навстречу им среди тогдашних насекомых возникали формы, удивительно похожие на будущих опылителей — бабочек. Причем если обычно в гонке за право породить новую перспективную группу соревнуются хоть и не близкие, но все же родственники (все «недоптицы» принадлежат к группе архозавров, все «недомлекопитающие» — к териодонтам, все «недоамфибии» — к кистеперым), то подобия цветковых растений и бабочек возникали в самых разных группах голосеменных и насекомых. В частности, формы, удивительно похожие на бабочек, появились в столь далеких друг от друга отрядах насекомых, как сетчатокрылые и скорпионницы.
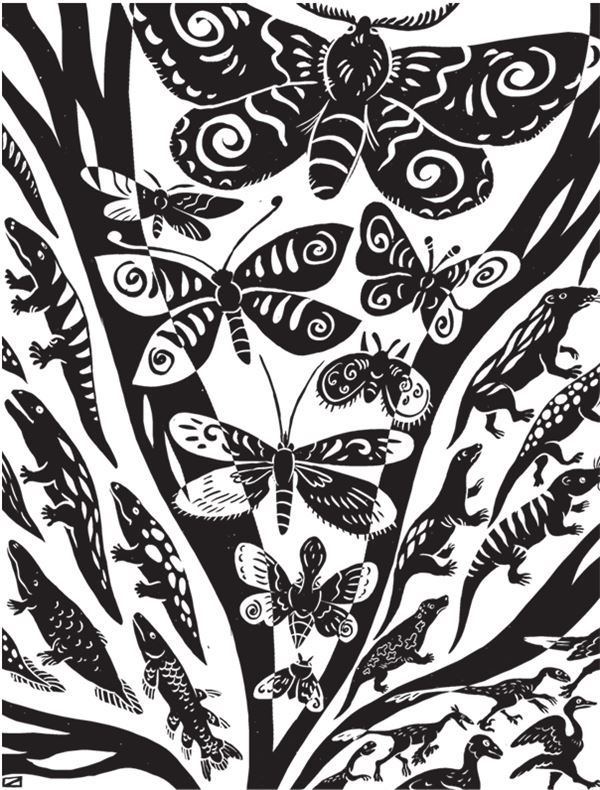
Согласно СТЭ, такое если вообще может быть, то только как крайне редкое случайное совпадение. Но всевозможные «-зации» оказались слишком частыми и слишком синхронными, чтобы их можно было списать на чистую случайность.