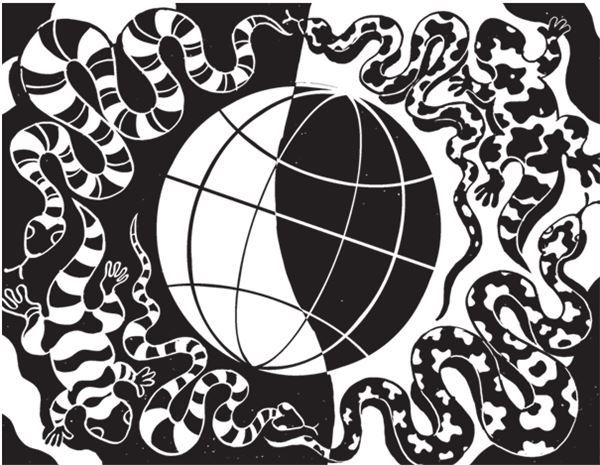Мы все — даже те, кто совершенно не интересуется ботаникой — прекрасно знаем причудливую и неповторимую форму дубового или кленового листа и вряд ли спутаем их с чьими-нибудь еще листьями. У этих деревьев есть близкая родня на Дальнем Востоке — другие виды тех же родов. Но при этом у дальневосточных дубов и кленов (а также у калины и некоторых других деревьев и кустарников, европейские виды которых отличаются сложной и оригинальной формой листа) листья совсем не такие — они цельные, овальной формы и напоминают лист ольхи или лещины. Вообще говоря, форма листа — признак довольно нестабильный, легко изменяющийся в результате единичных мутаций, а то и под влиянием чисто физиологических факторов. Но тогда тем более удивительны столь закономерные географические различия.
Особенно часты такие явления в окраске. Скажем, многие наши дневные хищные птицы имеют оперение серого или бурого цвета с темными пестринами. А их родственники в Южной Америке одеты в яркое черно-рыже-белое оперение. При этом на обоих континентах соответствующая «мода» охватывает как представителей семейства ястребиных, так и соколиных — хотя родство между ястребами и соколами куда более отдаленное, чем между видами внутри каждого из этих семейств. Скромный наряд наших пернатых хищников можно попытаться объяснить требованиями маскировки (хотя совершенно непонятно, от кого могли бы маскироваться сапсан или пустельга — при их-то способе охоты), яркое оперение их заморских родичей — половым отбором (хотя ястребы и соколы обычно строго моногамны, а у таких видов половой отбор, как мы помним, малоэффективен). Но почему в Евразии важнее одно, а в Южной Америке — другое?
Такие явления можно видеть не только у рожденных летать, но и у рожденных ползать. У рептилий и амфибий Центральной Америки очень модна так называемая «коралловая» окраска — наряд из чередующихся красных (или рыжих, или ярко-желтых) и черных колец. Такое сочетание цветов часто используется ядовитыми или жалоносными животными для предостережения хищников. И даже то, что в Центральной Америке так окрашены многие не только ядовитые, но и совершенно безобидные змеи (а также ящерицы, лягушки и саламандры), можно объяснить бейтсовской мимикрией: беззащитные виды подражают в окраске хорошо защищенным. Но вот именно кольцеобразная форма цветовых пятен — фирменный стиль Центральной Америки: у наших жерлянок или европейских саламандр желтые пятна не имеют сколько-нибудь правильной формы.
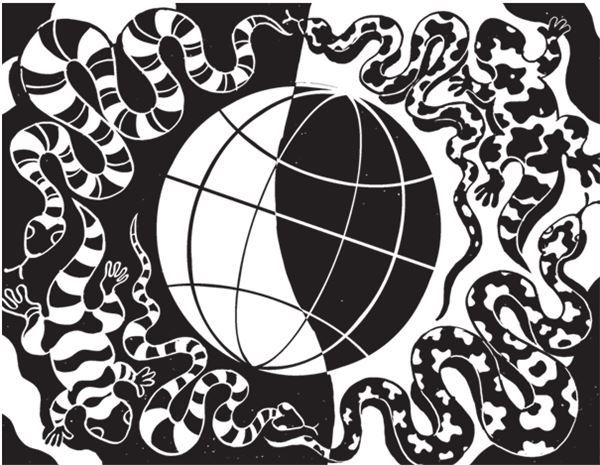
Такие явления, получившие название «географический параллелизм» или «географический стиль», были известны еще натуралистам XIX века. За сто с лишним лет знакомства с ними ученые предложили немало гипотез для их объяснения: особенности зрения местных хищников, микроэлементный состав почвы или воды, даже перенос соответствующих генов вирусами от одного вида другому. Но ни одной из них не удалось объяснить все известные факты. Так, например, одним цейлонским бабочкам синий цвет придают соответствующие пигменты, а другим — оптические эффекты, создаваемые бесцветными хитиновыми чешуйками, покрывающими их крылья. Понятно, что никакой микроэлемент, ген или вирус не мог обеспечить столь разные пути достижения одной и той же окраски. А, скажем, цепкохвостость требует целого ряда изменений в структуре кожи, схеме иннервации хвоста и т. д. — что вряд ли может быть результатом заноса вирусом единичного гена и уж тем более — отличий в микроэлементном составе почвы.
Редкое сочинение критиков дарвинизма (по крайней мере, из числа эволюционистов) обходится без упоминаний о феномене географического стиля. В самом деле, ни классический дарвинизм, ни СТЭ, ни какая-либо еще селекционистская концепция не могут предложить сколько-нибудь правдоподобных объяснений этого феномена (хотя и не запрещают прямо его существования). Проблема, однако, в том, что никакая другая теория, концепция или подход тоже не могут предложить никаких объяснений — по крайней мере, более внятных, чем «влияние ландшафта». Никто из критиков не предлагает никаких, даже самых фантастических гипотез, каким образом макрогеографические условия (заметим, что во всех перечисленных случаях эффект проявляется в масштабе континентов, субконтинентов или очень крупных островов) могут оказать такое влияние на эволюцию большого числа не связанных близким родством видов. Так что данная проблема не может быть использована как аргумент против дарвиновской модели эволюции (и тем более — как аргумент в пользу какой-то другой модели). Что, разумеется, не отменяет существования самой проблемы и не делает ее менее интригующей.
Травы и отравы
Люди лечились травами чуть ли не от всех болезней с незапамятных времен. Конечно, часто эти «лекарства» выбирались просто по внешнему сходству частей того или иного растения с тем органом, от расстройств которого они должны были якобы помогать (например, листьев печеночницы — с печенью или клубней ятрышника — с мужскими семенниками). И все же научная фармакология подтвердила: растения, особенно цветковые, содержат множество органических веществ, обладающих самым разным (и порой очень сильным) физиологическим действием на организмы млекопитающих, в том числе на человеческий. Эти вещества принадлежат к разным классам (кислоты, спирты, эфиры, масла и т. д.), но особенно многочисленны среди них алкалоиды — относительно сложные («скелет» их молекул образуют 10–50 атомов углерода) соединения, содержащие азот и проявляющие в растворе свойства оснований. Сегодня химикам известно около 12 тысяч алкалоидов — и практически все они были открыты в живых организмах, в основном в высших растениях, прежде всего цветковых (небольшое число найдено также в грибах, водорослях и некоторых животных). Растительные алкалоиды усыпляют и бодрят, расслабляют и тонизируют, усиливают и угнетают работу сердца, движения кишечника и выработку гормонов, расширяют и сужают сосуды, стимулируют и подавляют деление клеток, вызывают галлюцинации и блокируют размножение одноклеточных паразитов в человеческой крови.
Но зачем они нужны самим растениям, у которых нет ни сердца, ни кишечника, ни центральной нервной системы? Какую роль играют они в растительном организме?

Одно время алкалоиды считались своего рода «биохимическим мусором», побочными или конечными продуктами азотистого обмена
[159]. Однако для большинства растений азот — элемент слишком дефицитный, чтобы связывать его в бесполезных соединениях. К тому же алкалоиды ведут себя совсем не как отбросы: они не выделяются во внешнюю среду и не накапливаются в виде каких-то отложений в теле самого растения. Их содержание в растении закономерно меняется в соответствии с фазами развития: обычно в молодом растении алкалоидов мало, затем их содержание постепенно растет, достигая пика к моменту цветения, а после отцветания снижается (хотя известно немало исключений из этой схемы). Концентрация алкалоидов меняется и в течение суток — обычно вечером и ночью она заметно выше, чем днем. У некоторых растений алкалоиды синтезируются в одних частях (например, в корнях), а максимальной концентрации достигают в других (скажем, в плодах), куда активно переносятся из мест синтеза.