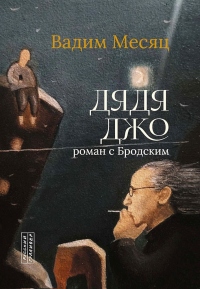
* * *
Часть первая. Мажор
Столица мира
— А вы напишите письмо вождям Советского Союза и приезжайте к нам, — сказал Бродский. — Так многие делают. Напишите в России, а отправляйте из Америки. Почта здесь работает хорошо. И вообще — безопасней. Лучший экспромт — тщательно подготовленный экспромт.
Я закурил у открытого окна. В небе мерцали звезды. Они не вызывали во мне размышлений. Мало ли что значат эти огоньки над головой? Ночной Екатеринбург. Холод. Маленькая сигаретка в ответ. Меня поражало качество телефонной связи. Поэта было слышно, словно он находился в соседней комнате, а не за тысячи миль, «на континенте, держащемся на ковбоях».
— Советского Союза? — переспросил я. — У нас теперь осталась только Российская Федерация. Эрэфия. Остальные самоопределились.
— Вы в этом уверены? — засомневался поэт. — Я до сих пор не могу привыкнуть. — Потом встрепенулся. — Если это действительно так, то чудесно! Это предел мечтаний! Разрушена империя зла!
— Ну и кому теперь писать? Царю Дадону? — пробормотал я.
— Письма бывают разоблачительными, примирительными, конструктивными, неконструктивными, покаянными, добрыми, злыми. Наконец, бывают просто прощальные письма. Напишите вашему вождю прощальное письмо. Вы ладите с властями?
Нет, с властями текущего исторического периода я не ладил. Одни партийные хари сменились другими, ставропольский клан передал полномочия уральскому. В политику пришли недоделанные лаборанты, доделанные бандиты, разнообразные дворники и сторожа. В основном — склочная интеллигенция, испорченная квартирным вопросом. Со жлобами я, как существо одухотворенное, общего языка не находил.
— О, — обрадовался Бродский. — Так и напишите. Вокруг хамские морды, а тут я, такой нежный.
Я подумал, что он издевается.
— А что, в Америке нет хамских морд?
— Почему? Хватает. У нас их даже больше. Другое дело, что в Америке можно не обращать на них внимания.
— Как это?
— Да так. Я не обращаю на них внимания. Они не обращают внимания на меня. Здесь возможно частное существование личности. Privacy. Собственность неприкосновенна. Но личность неприкосновенна вдвойне. А в России — общага, стадный коллективизм. И так далее и так далее.
Я задумался. Коллективизм мне нравился. Я бы даже сказал, что мне нравился мистический коллективизм. Крестный ход. Соборность. Чувство локтя. Товарищество. Взаимовыручка. Пролетарский интернационализм. «Строили мы, строили — и наконец построили». В спорте я предпочитал командные виды типа волейбола. Родился в Сибири. Там отшельником-индивидуалистом не проживешь. Замерзнешь.
Я не стал говорить об этом поэту. За годы на чужбине он мог забыть чувство советского товарищества.
Несколько месяцев назад я переехал из студенческого Томска в промышленный Свердловск. Приблизился к цивилизованной Европе. В городе были киностудия и Дом кино, где я посмотрел фильм Бергмана «Фанни и Александр». Тут же решил, что жизнь удалась. География выстраивает мозг в соответствии с ландшафтом. В центре города находился Театр оперы и балета, построенный пленными немцами, для которого мои друзья сочиняли либретто о современности. Кривоногий гоблин, стоящий на глыбе гранита в центре города, изображал известного революционера, но на него после разоблачений журнала «Огонек» лишь злобно косились. Рядом благоухал зоопарк, откуда мы с моим другом по пьяни пытались освободить дикобразов. На улице Первомайской возвышались монументальные общественные бани. В гастрономе на улице Ленина наливали шампанское. В книжных магазинах продавали книги. И люди их с жадностью покупали. Постчеловеческое общество здесь еще не состоялось.
— У нас тут стреляют, — сообщил я Бродскому. — Стреляют по ночам, потому что ночью лучше слышимость.
— По-вашему, стрельба только для звука?
— Когда как.
Я признался, что меня тянет на прогулку в такие огнестрельные часы.
— Иногда подростки раздевают женщин. Окружат толпой, снимут шубу, платье, серьги и колье, оставят в чем мать родила и — смываются на авто. Днем. В центре города. Я бы не сказал, что это романтическое зрелище.
— Некрасиво. Здесь такого не было даже во времена Дикого Запада. Демократия всегда начинается с грабежа.
— Мне по кайфу, — сказал я. — В нашу жизнь нужно вернуть опасность. Только тогда человек ценит то, что он еще жив.
— Вы слишком молоды, — вынес заключение Бродский. — Это синоним глупости. Или у вас генетическая предрасположенность к иррациональным поступкам? Такое бывает. Дромомания — склонность к бродяжничеству, пиромания — к поджигательству. Еще есть «мания величия», но это не о вас, кажется…
— У меня булимия, — нашелся я, хотя не был уверен в значении этого слова.
— Ну, это нормально, — согласился поэт. — Растущий организм требует мяса. У вас продают мясо? А сыр?
Я рассказал о разнообразии ассортимента на прилавках молодого государства. Живописал ларьки с решетчатыми окнами, стоящие по всему городу. Спирт «Рояль», водку в одноразовых стаканчиках с крышкой из фольги, киви, манго, бананы, прочие экзотические продукты.
— Появились американские шоколадные батончики. Кока-кола в больших пластиковых бутылях. Купил недавно паленый виски. Отравился.
— Вы разбираетесь в виски?
— Нет, — признался я. — Поэтому и отравился.
— Удивительно интересно, — повторял он после каждого моего сообщения. — Удивительно.
Похоже, его поражало, что где-то, кроме Нью-Йорка, тоже живут люди.
— Тут все меняется, — интересничал я. — Еще недавно не было сигарет и табак продавался на развес. Как-то в очереди местное телевидение взяло у меня интервью.
— Вас узнают на улицах?
— Нет. Они обратились ко мне случайно.
— И что же вы сказали?
— Сказал, что люблю курить. Из искры возгорится пламя.
— Логично.
— Во всем есть смысл, — сказал я. — Женщины отдаются за пачку сигарет, — я привел несколько случаев из жизни.
— Как у вас хорошо, — воскликнул Бродский.
— Еще как, — ответил я. — Никакой Нобелевской премии не надо.
— Вам, может быть, и не надо, — согласился он. — Вам вообще ничего не надо.
— В этом и есть суть свободы…
Я в те времена к премиям относился с интересом и даже уважением. В начале 90-х Нобелевская премия считалась пропуском в бессмертие. Пропускная система сломалась. Бессмертия больше нет.
— Здесь воняет горячая вода. Не знаю чем. Карбидом, что ли, — пустился я в недавние воспоминания. — Мне это тоже нравится.

