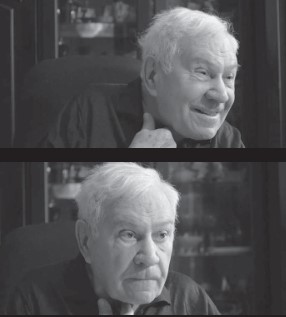Когда я выздоровел, Палыгин попросил, чтобы меня с шахты перевели на работу в строительную организацию. Поскольку я окончил артиллерийское училище, меня сразу назначили геодезистом, а потом техником по контрольным замерам производственного отдела. Вот так началась моя жизнь в лагере. Я стал постепенно адаптироваться. И уже в 1948 году, всего лишь после двух с половиной лет заключения, меня приказом начальника комбината «Воркутауголь» генерала Мальцева
[64] назначили начальником планового отдела строительного управления. Вот так в 25 лет — заключенный, но уже начальник. В лагере я принимал активное участие в самодеятельности. Я умел писать стихи. Начал с маленьких одноактных пьесок, скетчей, одновременно исполняя обязанности конферансье. В качестве примера приведу куплет-приглашение собственного сочинения, помню до сих пор:
Цыганский быт и нравы стары,
Для нас, друзья мои, не новы.
Аккомпанируют гитары,
Танцует Зоя Сапогова!
Эта Зоя Сапогова была на самом деле цыганкой, осужденной за какие-то воровские или мошеннические дела, но, как большинство молодых цыганок, танцевала зажигательно и красиво. Понимаете, у меня такой склад душевный: я в любых обстоятельствах умел найти нечто доброе, нечто хорошее, отыскать друзей по своему шаблону. Кроме того, еще привычка много работать, что-то постоянно делать, быть полезным. Работа поглощала, ничего, кроме работы, и запойное чтение книг. В лагерях были великолепные библиотеки, в городах таких не было. Лагерные библиотеки комплектовались книгами, конфискованными у репрессированных «врагов народа». И если другие конфискованные материальные ценности становились желанной добычей вершителей «праведного суда», то книги им были не нужны. Их никто не просеивал через цензурный фильтр. Зачем? Антисоветчики и так уже находятся за колючей проволокой на Крайнем Севере и пусть читают и болтают что хотят — дальше уже посылать некуда. Можно было читать Гумилева и Бальмонта, Хлебникова и Мандельштама, Мариенгофа и Есенина; были творения Соловьева, Бердяева, Кропоткина, Булгакова, Бунина, Набокова, Куприна. В той первой лагерной библиотеке, с которой я невзначай столкнулся в первые месяцы своей неволи, был в полном собрании Федор Достоевский. Чтение книг вечерами после работы, а днем работа — все это превратило лагерную жизнь в какую-то осмысленную деятельность.
К жизни в лагере нужно было, конечно, приспосабливаться. Помимо политических в лагере были воры и «суки». Вор по закону — своему воровскому закону — не должен был работать, особенно на административных должностях (нарядчиками, бригадирами и так далее). Те воры, которые изменяли воровскому закону и шли работать, были «суками». В последние годы, перед освобождением, я работал бригадиром комплексной бригады. Как-то раз ко мне приходит рыжий-рыжий детина такой здоровенный и говорит: «Слушай, бугор, я дам тебе по имени трех человек. У тебя бригада 60 человек, три человека — это капля в море, будешь их подрядом проводить, а за это над тобой будет крыша. Посылки, которые твои люди будут получать, никто никогда не тронет, твое имя никто не тронет, твоих людей никто не тронет». Я сказал ему «да», потому что я к тому времени опытный лагерник был, понимал, что без этого не проживешь.
О том, что я освобожусь, какого числа, я знал за две недели, мне в канцелярии сказали. В день освобождения я получил временный паспорт и проездной билет. Я просил билет до Ярославля, а мне сказали: нельзя! Ярославль — областной город, а у меня поражение в правах. И мне дали небольшую сумму денег, оставшуюся на лицевом счете после всех вычетов. Я вышел за ворота и остановился. Наверное, у меня было глупое выражение лица. Я своего лица не видел. Весна, 16 мая, солнце. Я стою, и вдруг ко мне подходит парень, механик: «Я от людей». На воровском жаргоне «от людей» значит от воров, остальные не люди. «Мишаня, я от людей». Я говорю: «Слушаю». — «На сходке решено тебе денег дать». Я спрашиваю: «Каких денег?» — «Ты нам сделал, мы тебе решили сделать». Я ответил: «Слушай, ты только не обижайся и людям скажи, пусть не обижаются, мне не надо, вот у меня деньги — видишь?» Мне как дали расчет, так я в руке и зажал эти деньги. «Ничего не надо, скажи людям спасибо и до свидания». Вот так я освободился.
Потом меня реабилитировали, восстановили в партии, вернули ордена. После освобождения из лагеря возвращаться домой мне было запрещено, но я все-таки решил заехать ненадолго в Ярославль, хотел увидеться с Лидой — моей школьной любовью. Мы целый час стояли и обнимались. У нее тогда уже была дочка Ирочка, она на мне повисла — так мы и простояли. В следующий раз мы увиделись через несколько лет. Я был в Сочи на отдыхе, возвращался домой в Воркуту, поезд остановился в Москве, я стоял на вокзале и мучительно раздумывал о том, не выйти ли мне в Ярославле, мне так хотелось увидеть Лидочку, без нее это была не жизнь. Я доехал до Ярославля, пришел к ней. Это была сумбурная и неожиданная встреча. Мы решили, что Лидочка приедет ко мне в Воркуту, и она действительно приехала и жила у меня целый месяц. Уезжая, она пообещала мне, что разведется с мужем и приедет, но вместо этого отправила телеграмму:
«Приехать не смогу по семейным обстоятельствам».
Сталин и перед своей смертью умудрился самую большую подлость совершить — процесс против врачей. Начались повальные аресты. Лида была напугана, поэтому отправила мне такую телеграмму. Я сгоряча через несколько месяцев (а я был парень ничего, девки осаждали) женился на Тамаре Бражник. Она как молодой специалист, инженер-технолог, углехимик, приехала по распределению после института в Воркуту. Я стал ее мужем, она родила мне двоих детей. Все было прекрасно, но я ее не любил — уважал.
Снова с Лидочкой мы встретились только в 1984 году, когда я уехал из Воркуты насовсем, вернулся в Ярославль. К этому моменту мы оба овдовели, но в феврале 1985 года сыграли свадьбу. Нам обоим было за 60 лет. Это была комсомольская свадьба, пришли наши школьные товарищи. Мы прожили 30 счастливых лет. Мы много путешествовали — вставали утром, открывали карту, тыкали пальцем и говорили: а давай поедем сюда!
Я любил в жизни только раз. Я — однолюб.
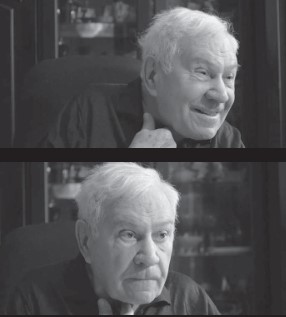
Михаил Пеймер
Михаил Пеймер, боевой офицер, участник битвы за Москву, Сталинградской битвы, операции по освобождению Белоруссии, стал жертвой доноса уже в самом конце войны. Осужденный по статье 58–10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) на 10 лет лагерей, он попал в один из самых крупных «островов» ГУЛАГа — Воркутинский ИТЛ (Воркутлаг), расположенный в Заполярье. Основной производственной деятельностью Воркутлага была добыча угля. В годы войны воркутинский уголь, добытый заключенными, отправлялся в блокадный Ленинград. Численность заключенных Воркутлага после войны достигала 73 тысяч человек. Генерал Михаил Митрофанович Мальцев, начальник комбината «Воркутауголь» и одновременно начальник Воркутлага, был одним из тех редких типов руководителей ГУЛАГа, о которых бывшие заключенные вспоминают с чувством уважения. Пренебрегая приказами и распоряжениями, Мальцев назначал на инженерно-технические должности политических заключенных, одним из таких был Михаил Пеймер. Будучи заключенным, он прошел путь от шахтера до начальника планового отдела стройуправления на строительстве новых шахт.