Емельянов внимательно смотрел на тело и вдруг вздрогнул. Под подбородком, слева, у покойной Ларисы Клименко виднелся точно такой же синяк, как на лице Киры Вайсман! Это был отпечаток большого мужского пальца.
— Какая причина смерти? — дрогнувшим голосом спросил он.
— Отравление нембуталом, — ответил врач. — Ей укол сделали под лопатку. Я нашел точку с застывшими каплями крови. Значит, дамочка не покончила с собой.
И тут Емельянов потерял дар речи! Перед ним на столе в морге лежало тело женщины, имевшей точно такие же признаки смерти, как и Кира Вайсман, гримерша из Треугольного переулка!
Однако эти женщины даже не были знакомы! Но, выходит, их смерти были связаны?
Емельянов растерялся. К такому сюрпризу он был не готов.
— Хочешь, удивлю? — спросил врач.
— Ну попробуй, — убитым тоном произнес Емельянов, все еще не пришедший в себя.
— У меня лежит труп еще одной дамочки, который имеет точно такие же признаки смерти — отравление нембуталом, след от инъекции с кровью и синяк на лице. Труп без документов, не опознан и тоже доставлен с улицы. Лежала на скамейке рядом с жилым домом. Но в этом доме она не жила.
— Показывай! — вскинулся опер.
Они перешли в соседнее отделение, и врач выкатил из шкафа каталку. Под простыней оказалось тело миловидной молодой девушки с коротко стриженными каштановыми волосами.
— Возраст — до 35 лет, рост 175 сантиметров, вес — около 50 килограммов. Худощава, с плохо развитой грудью. Имеется шрам от аппендицита. И, что самое интересное, она была в одной ночной рубашке, даже без нижнего белья и без обуви! И это в феврале! Поэтому нашедшие ее и вызвали милицию.
У Емельянова была фотографическая память, и он сразу отметил, что по базе данных женщина с такими приметами в розыске не значится. Ее не искали. Дело разрасталось на глазах как снежный ком.
Глава 7
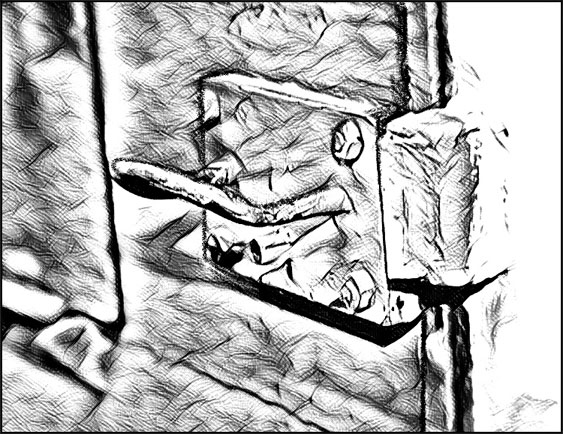
1 марта 1967 года, Люстдорфская дорога
Дождь пошел около девяти вечера, но Анатолий едва расслышал его из-за множества громких голосов. Было совсем темно. Лампочка горела вполнакала, и по грязным, поросшим грибком стенам как призраки плясали рваные тени. И на этом фоне — голоса, голоса…
В камере всегда было шумно, но особенно по вечерам. Казалось, с наступлением ночи жизнь возобновлялась. Эта непонятная активность ночной жизни в тюрьме в первое время была для него китайской азбукой, абсолютно непонятным явлением. Но потом он понял.
И дело было не только в том, что по ночам охрана была менее бдительна. И не в том, что именно ночью можно было общаться с другими камерами, передавая записки по веревке. А в том, что ночью почти у всех, заключенных за густой решеткой, отрезанных напрочь от мира, появлялась новая, другая энергия, словно в них вливалась свежая кровь. Если бы Нун был религиозен, то сказал бы, что здесь не обошлось без нечистой силы. Но он был писателем, человеком, призванным тонко чувствовать человеческую душу. Поэтому говорил себе, что дело здесь в самой разрушительной и страшной силе из всех — в надежде. Именно надежда на то, что ночь принесет новый день, и этот день будет совсем другим, заставляла кровь заключенных закипать в их жилах в преддверии утра.
Конечно, никто из его сокамерников не понял бы этой мысли, выскажи он ее, ни за что не осознал бы и не высказал вслух. Но Анатолий был твердо уверен, что дело именно в этом: надежда — самый лживый и страшный разрушитель из всего существующего, убивший не одно будущее.
И если бы он составлял свои молитвы, то добавил бы кое-что лично от себя: убейте надежду. Пусть вам повезет вовремя убить в себе надежду. Ту отчаянную веру, которая заставляет цепляться за прошлое. Лишь только когда нет никакой надежды, можно встать на ноги и очень осторожно попытаться двигаться вперед. Маленькими шагами. Чтобы выйти. Чтобы выжить. Для этого нужно только придушить в своей душе ее — лживую, тщетную надежду. И это самое простое, но и самое сложное дело из всего.
По ночам Нун никогда не принимал участия в общем веселье. Он ни с кем не разговаривал, не сидел за общим столом. Лежа на своих верхних нарах, на третьем этаже, отстраненно наблюдал за происходящим внизу, рисуя собственные картины и образы. Анатолий был сторонним наблюдателем этого не похожего ни на что мира. И постепенно его оставили в покое.
Там, наверху, было не так уж и плохо. Чувство страха постепенно исчезло, он научился взбираться наверх, и со временем такая отстраненность — высотой — стала его внутренней свободой. Той самой свободой, которую никто не может отнять — кроме него самого.
Было около девяти вечера. Нун давно уже забрался наверх и закрыл глаза. Снизу галдеж не утихал. Сокамерники обсуждали какие-то записки — в тюрьме их называли малявами, что-то варили на керосинке и ели. Кто-то умудрился достать спиртное — крепкий домашний самогон — и угощал всех. В тюрьме доставали за деньги все что угодно, и даже алкоголь — от дешевого самогона до дорогого вина. Несколько раз Анатолия пытались угостить, но он полностью потерял интерес к спиртному. Он вообще не понимал, как раньше литрами мог пить коньяк. А главное — зачем.
Только здесь, в тюрьме, Нун по-настоящему оценил хорошее самочувствие и свежую, ясную голову. Но, как и многое другое, это понимание пришло к нему слишком поздно.
Закрыв глаза и вытянувшись на спине, он слушал шум дождя. Нары, на которых он лежал, были ближе к окну — ближе всех остальных. И только теперь он оценил этот дар судьбы.
Ему было доступно то, что не было доступно всем остальным: слушать шум дождя, вой ветра, шелест веток деревьев, росших поблизости, перекличку часовых в тюремном дворе, шаги…
Оказалось, что это было просто огромное богатство! Оно делало его самым богатым человеком на свете. И не важно, что это было крошечное, забранное густой решеткой, узкое окошко под самым потолком, и выглянуть в него было нельзя. Это богатство, которым обладал он один, делало его невероятно счастливым. И каждую ночь он наслаждался этим сполна.
Нун закрыл глаза и постепенно стал погружаться в сонное забытье. Голоса внизу совершенно не мешали этому. Появились какие-то смутные, давно забытые образы. Капли дождя барабанили в такт маминой песни, той самой, которую в детстве она так часто ему пела! Как жаль, что теперь он не мог вспомнить слов…
Еще он слышал вой сирены в порту, под который так любил писать свои книги. В такую дождливую погоду, как сегодня, он обязательно открыл бы окно, и вся комната наполнилась бы этим тоскливым призывом — жить, несмотря на туман, жить, несмотря ни на что. Он бы писал и слушал, а дождь за окном выбивал бы по камням какую-то свою тайную истину. А он писал бы строку за строкой, чтобы ее разгадать.
Тело стало легким, словно погружалось в какую-то непонятную невесомость. И вдруг неизвестно откуда послышался резкий, тревожный голос мамы: «Толик, выходи!.. Выходи!..»

