…Стокгольм — Мальмё — Копенгаген — Христиания — Роттердам — Антверпен — Лондон — Кале — Гавр. Ну а там по Сене до Парижа рукой подать. Не без доли бахвальства Горлис-старший также сказал, что может назвать примерную прибыльность сего рейса, а также долю от выручки, ожидаемую именно им. Натан же вежливо ответил, что не смеет утруждать родственника поиском таких подробностей. Тогда мемельский Горлис голосом, отчасти извиняющимся, согласился, что, конечно, долго и неудобно — а если человек морской болезни боится, то вообще ужас — но зато очень-очень дешево. «Ничего, я потерплю», — произнес Натан с той же приглушенной интонацией… Но при этом он с трудом сдерживал рвущийся из горла крик радости.
Он, кто целый год отвечал за ведение дел сразу в нескольких семейных лавках. Он, кто читал кадиш за родителей на их могилах. Он, отвозивший младших сестер в приемные семьи, а старших — к женихам. Он, казалось бы, серьезный взрослый человек, испытывал сейчас невероятный, небывалый восторг мальчишки, которому, предъявив карту с интересным, но условным маршрутом, тут же, следом, пообещали показать всё то же, но уже воочию. Правда, Горлис совершенно не знал, что такое «морская болезнь» и боится ли он ее. Но хотелось верить, что нет.
И она вправду не помешала. На корабле при всякой погоде и любой качке, что килевой, что бортовой, он чувствовал себя великолепно. Так что морское путешествие Натана вышло преинтереснейшим, с некоторыми весьма любопытными событиями. Но говорить о них здесь не будем. Во-первых, из экономии места, а во-вторых, чтобы не портить хорошую историю беглым пересказом. Уж как-нибудь после…
Если же взглянуть на происходившее со стороны и чуть сверху, то это выглядело парадоксально. В Европе по всему периметру Франции, да и в ней самой, то там то тут вновь вспыхивали, горели или тлели очаги войны. А тем временам некий торгово-пассажирский корабль спокойно ходил от одного до другого российского порта, а позже — шведского, датского и прочих, перевозя пассажиров, товары, почту. Войну же обсуждали в одном ключе: ну как, можно уже идти в Северное море или обождать (сбивая тем график и входя в убытки), поскольку английские фрегаты, стерегущие передвижение наполеоновского флота, будут мешать спокойной торговле? Как бы там ни было, а в начале июля, когда корабль вышел в Северное море, было уже безопасно. И очевидно, что для Наполеона всё кончено. А торговля — она вечна.
Высаживая Натана в Гавре, капитан корабля в качестве благодарности за помощь, оказываемую юношей при оформлении документов, подсказал, как лучше и дешевле добраться до Парижа по Сене. А также дал совет поистине бесценный: ни с кем и ни при каких обстоятельствах не говорить о политике. Совсем! Франция сейчас, как растревоженный улей. Ненавидящих Людовика XVIII не меньше, нежели ненавидящих Наполеона. Победил (пусть и чужими штыками) Бурбон, а не Бонапарт. Однако нигде не можно знать, на чьей стороне будет перевес в каждой отдельной таверне, закоулке, борделе. И цена за не вовремя сказанное неаккуратное слово может оказаться самой дорогою. По пути к тетушке Эстер Натан имел несколько возможностей убедиться в правильности данного ему совета.
Часть IV
О внезапностях разного рода в жизни, смерти и в любви

Глава 16,
в коей новость об отставном императоре доходит до Одессы и, кто бы мог подумать, оказывается весьма важной для Горлиса
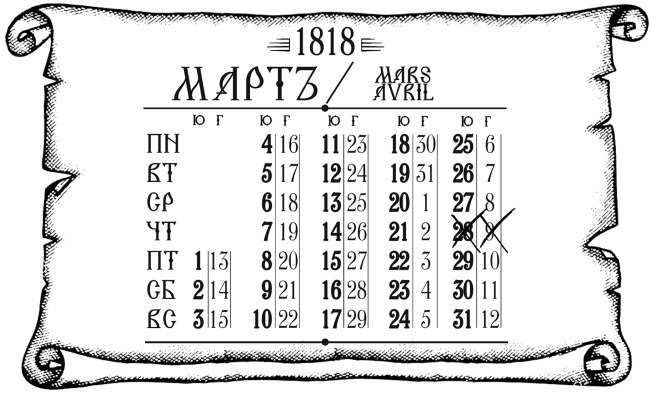
Настал четверг. Ровно неделю назад к Натану приехал Афанасий и рассказал о странной смерти, произошедшей в Рыбных лавках. Непростая история, однако ж дело движется…
А еще четверг — важный рабочий день в трех учреждениях, где трудится Натан.
Сегодня он постарался отработать поскорее. Но в Австрийском консульстве, вопреки этому стремлению, пришлось еще подекламировать Новалиса и отдельно уточнить, что поиск библиофила Гологордовского результатов пока не принес. В русской же канцелярии на лишние разговоры не отвлекался и дела сделал быстро. Но наибольшая неожиданность ждала Натаниэля во Французском консульстве, точнее, в газетах, пришедших со свежей почтою. Горлис бегло просматривал их, делая пометки для аналитической записки.
И вот в одной из газет он наткнулся на заметку, в которой была новость, заключавшаяся в отсутствии чего-то нового. Но именно она и именно сейчас оказалась для Натана чрезвычайно важною. В заметке говорилось, что бриг L’Inconstant, известный тем, что в начале «Ста дней» доставлял узурпатора Бонапарта с острова Эльба в пределы Французского королевства, по-прежнему находится в порту Тулона, ожидая решения своей участи: быть восстановленным, чтобы вернуться во флот, или же порубленным на доски в доке, чтобы стереть еще один носитель воспоминаний о кровавом авантюристе, «корсиканском чудовище», принесшем столько бед Франции и всей Европе.
Бриг L’Inconstant! Сразу же вспомнилось это слово — набитое деревянными буками на доме на Средних Фонтанах, вырезанное на кресле, с которого открывался замечательный вид на море из ракушняковой ниши. А ведь и тогда Горлис вспомнил о Наполеоне. Но сам же прогнал от себя эту мысль, посчитав ее слишком юношески восторженной. Однако об историческом бриге с таким названием тогда не припомнил. Не мудрено: после второго и уж последнего — окончательного, полного — поражения Бонапарта говорить об этом корабле не любили. Так что сие название из памяти совершенно выветрилось. И сам собой, без этой заметки, Натан не вспомнил бы его, столь малозаметным было оно под частым градом других событий, столь глубоко, надежно было погребено под множеством другой информации.
Но ныне сей факт многое подсвечивал иным, особым светом. Значит, перед Гологуром-Гологордовским всё же маячил образ Наполеона. В самом прямом смысле «маячил». Был путеводным лучом, указывал величественный путь, как мнилось «дворянину из Рыбных лавок», верный, сиятельный. Теперь также с большим основанием можно было предполагать, что означает число 100 000.
С легких уст графа де Шаброля об этой попытке Бонапарта, который, в 1815 году бежав с Эльбы, попытался восстановить величие Империи и свое собственное, стали говорить Cent-Jours, то есть «Сто дней». А еще те несколько месяцев власти называли Vol de l’aigle, то бишь «Полет орла». И вот Гологордовский, сидя в природном кресле из цельного срубленного им дерева, в ракушняковой нише, «орлином гнезде», величественно возвышающемся над морем, чувствовал себя таким же орлом, местным Наполеоном, готовящимся бежать из своего варианта «узилища на Эльбе». Но он надеялся, что его начинание будут ждать не «сто дней» власти и славы, но «сто тысяч дней». Примерно этак 270 лет, длинный срок, уходящий за пределы человечьей жизни…
И вновь Натан почувствовал некое магическое, магнетическое прикосновение к душе погибшего. Ведь это и ему близко, как и почти что каждому юноше в Европе. Разве он сам не хотел похожего, не совершал подобного? Разве не был его отъезд в Париж из родных милых Брод наивным детским, но столь же возвышенным вариантом «Полета орла»? А далее французская столица с тетушкой и дядюшкой, с надежной спокойной жизнью, тоже стали скучны, тесны. И он отправился в Одессу, как Наполеон в Египет. Зачем? «Делать вермишель»? О, нет же, это была лишь хорошая теплая фраза, дававшая ему связь с прежней жизнью, с семьей, с ушедшими родителями. В Одессу же он отправился за новой жизнью, за славой, за своей персональной маленькой империей. Горлис никому ранее в сём не признавался, кажется, даже и себе, но сейчас вполне это осознал: почему он взял во Франции имя Натаниэль и вписал его во французский паспорт? Имя, полученное с рождения — Натан, — стало казаться слишком простым и коротким, не таящим ни загадки, ни будущности. А в Натаниэле были и то и другое — тут пока до конца его произнесешь, столько надумать и представить успеешь. К тому же Натаниэль и Наполеон были странно созвучны. Не настолько, чтобы этим заинтересовались бурбонисты, но всё же достаточно ощутимо…

