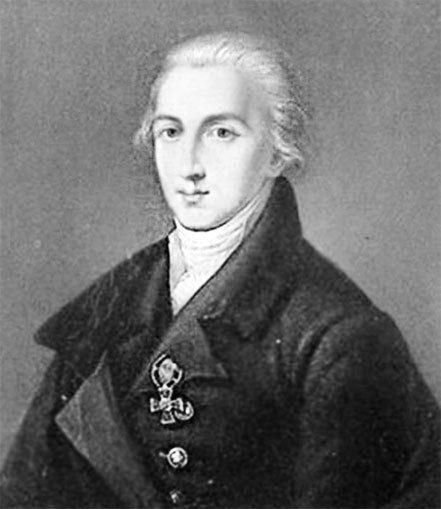Сын графа Д. Н. Шереметева таже вспоминал об этом: «При отправлении отца в Польский поход (1830) он (отец. — А. К.) передал управление всеми делами Куницыну. Когда, бывало, читал я Татьяне Васильевне Шлыковой „Лицейскую годовщину“ Пушкина: „И мы вошли, и встретил нас Куницын“, — она всегда с особенным удовольствием вспоминала о знакомстве с ним по близости его к отцу…»
[494]
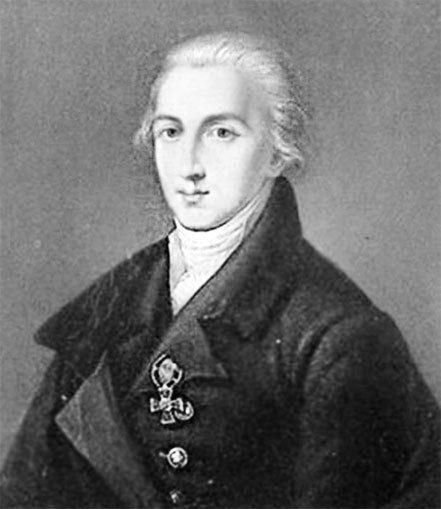
А. П. Куницын
А. П. Куницын родился в семье дьячка сельской церкви села Кой на границе Тверской и Ярославской губерний. Образование получил в Кашинском духовном училище, единственном учебном заведении, в которое он мог тогда попасть как сын священнослужителя. Затем Куницын окончил Тверскую духовную семинарию, но, вероятно, не предполагал продолжать дело отца и стать священником, поскольку поехал в Петербург в училище для подготовки учителей. Молодой человек показал себя способным к наукам, поэтому его отправили за границу, он слушал лекции в Гейдельбергском университете, защитил диссертацию, был приглашен преподавать в новом учебном заведении — Царскосельском лицее, а также в Благородном пансионе. Но за вольнодумство его уволили от службы, однако его роль в воспитании юношества увековечена в стихах одного из его воспитанников, А. С. Пушкина:
… Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…
Куницыну после увольнения из профессоров надо было искать средства на жизнь. Можно предположить, что поступлению на службу к графу Шереметеву способствовал Павел Федорович Малиновский, хорошо знакомый с лицейскими преподавателями и многими воспитанниками Лицея первых его курсов, поскольку его брат Василий Федорович служил директором Лицея.
Был ли Куницын хорошим администратором? В дневнике и письмах Варвары Петровны Шереметевой, московской родственницы графа и его будущей тещи, которые она писала во время пребывания в Петербурге, есть на сей счет очень характерные строки. 27 октября 1825 г. она записала свои впечатления о молодом графе: «Бедный молодой человек, очень жалок, как его воруют, просто ужас! Представьте, что его доход ему недостаточен, он почти всегда дома, и с ним люди и те, кто у него живет (так как у него большое количество живущих), до того овладели им, что он не может сделать шагу без них. Надо видеть, как все это беспокоит старого Шереметева (Василия Сергеевича, бывшего опекуна графа. — А. К.)… Горе богатым сиротам. При всем этом говорят, он чрезвычайно добр, более чем на 100 000 рублей у него пенсий, много детей воспитывается на его счет, я нахожу его очень несчастным, но такова уже судьба этого человека…»
[495]. Недаром сложилась поговорка «Жить за шереметевский счет».
«Сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения» в 1820–1830-е гг. опубликовали несколько объявлений о долгах графа Дмитрия Николаевича: в феврале 1829 г. заложены два московских дома — дом в Тверской части Москвы под заем у московского купца Назара Бежина 100 тыс. руб. ассигнациями, сроком на год, и дом в Басманной части за заем у вдовы священника Авдотьи Васильевны Малининой 2 тыс. руб. ассигнациями, сроком на шесть месяцев. В 1834 г. граф распорядился заложить в Санкт-Петербургском опекунском совете около 5 тысяч душ крестьян из имения в Бирюченском уезде Воронежской губернии, сроком на 26 лет, и получил около миллиона рублей. В следующем году под залог 5 тысяч душ из имения в Борисовке (из 8 тысяч) он получил еще миллион.
Хранитель Музея быта в Фонтанном доме В. К. Станюкович, хорошо знавший документы родового архива, писал, что уже бюджет 1822 г. был с перерасходом в 600 тыс. руб. Деньги шли на значительные личные расходы, на содержание дома и большого штата служащих и дворовых, на пенсии, на благотворительность. Он особо отмечает огромные траты в 1838 г., когда только на перестройку дома ушло около миллиона рублей
[496].
Жизнь под залог имений типична для абсолютного большинства помещиков того времени. Во времена царствования Екатерины II, когда дворянство провозгласили главным сословием России, которому даровались максимальные привилегии, сложилась традиция жить широко, жить в долг, часто не сообразуясь с доходами. Именно такой стиль жизни считался «истинно дворянским» поведением. Стремление «с доходом свесть приход» (в «Евгении Онегине» у А. С. Пушкина) — присуще немногим. Накануне отмены крепостного права большинство дворянских имений было заложено и перезаложено. В полной мере это относится и к графу Д. Н. Шереметеву.
Александр Петрович Куницын к концу 1820-х гг. снова стал востребован правительством, его ценил М. М. Сперанский. В 1828–1829 гг. Куницына пригласили принять участие в работе Комиссии для составления законов (2-е Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии). Он также читал лекции слушателям духовных академий, готовящимся к званию профессоров законоведения. С 1838 г. Куницын — почетный член Петербургского университета. В 1840 г., незадолго до смерти, назначен директором Департамента духовных дел.
Иван Федорович Апрелев
В 1836 г. на должность правителя Главной домовой канцелярии приглашен сенатор Иван Федорович Апрелев (1800–1874). Происходил из старинного новгородского дворянского рода, «испомещенного» в Обонежской пятине Новгородского уезда еще в конце XVI в.
В течение последующих веков Апрелевы служили и обзаводились земельными владениями в других губерниях, но их с полным правом относят к числу коренных новгородцев. Отец Ивана Федоровича Апрелева владел деревнями в Хваловской волости Тихвинского уезда. На рубеже XVIII — начала XIX в. Федору Ивановичу Апрелеву, «от артиллерии полковнику и кавалеру», женатому на Анастасии Ивановне Львовой, принадлежала на этих землях усадьба под названием Усадище Большой Двор, расположенная на берегу реки Сясь. Ф. И. Апрелев сделал замечательную карьеру на военной службе. В 1780 г. он закончил кадетский корпус, служил сначала в бомбардирском полку, а затем в Санкт-Петербургском арсенале. С 1792 г. Апрелев стал во главе артиллерии гатчинских войск цесаревича Павла Петровича, где и зарекомендовал себя будущему Императору с самой хорошей стороны. В 1797 г. Павел I назначил его начальником Санкт-Петербургского арсенала и пожаловал 150 душ крестьян. В 1800 г. Федор Апрелев получил генеральский чин и состоял членом Главного артиллерийского управления. Ф. И. Апрелев был дружен с графом А. А. Аракчеевым, под началом которого он служил и с которым соседствовал. Любимое аркчеевское Грузино находилось недалеко от Усадища. Сохранившиеся письма Аракчеева к Апрелеву свидетельствуют об их дружбе. Портрет Аракчеева висел в усадебном доме Апрелевых. В летнюю пору генерал Апрелев любил приезжать в свое Усадище, принимал там гостей. В 1831 г. генерал умер и похоронен в церкви Рождества Христова Пашского погоста в деревне Надкопанье. После его смерти хваловские деревни, в том числе и Усадище (а всего более 1100 душ крепостных в Тихвинском и Новоладожском уездах), перешли к вдове и детям, которых было семеро.