
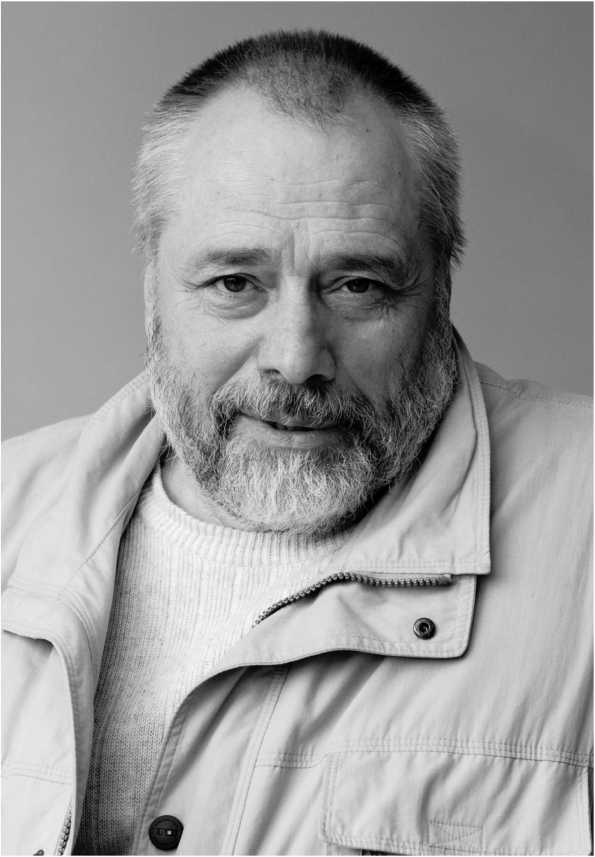
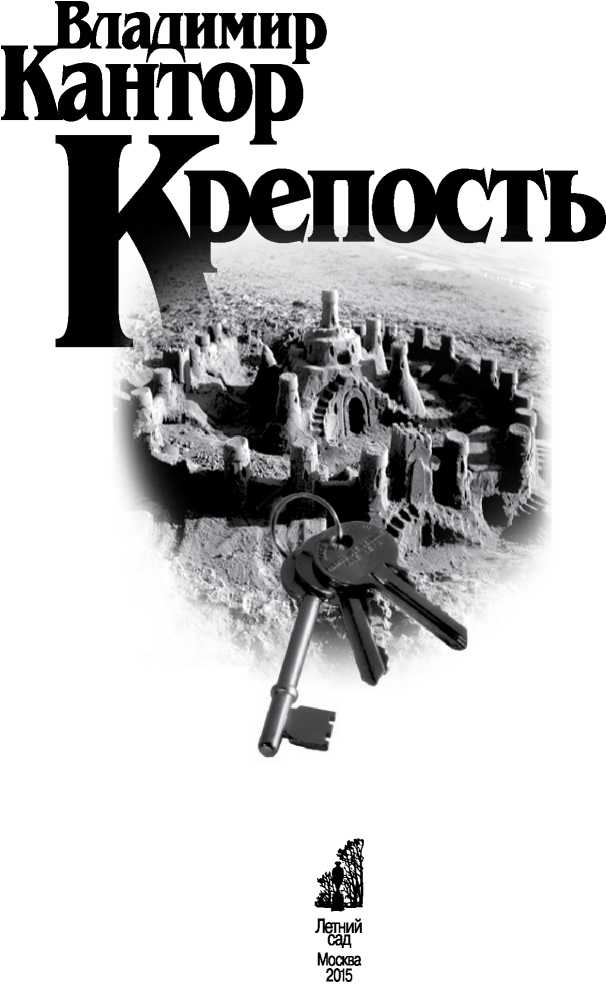
В романе «Крепость» известного отечественного писателя и философа, Владимира Кантора жизнь изображается в ее трагедийной реальности. Поэтому любой поступок человека здесь поверяется высшей ответственностью — ответственностью судьбы. «Коротенький обрывок рода — два-три звена», как писал Блок, позволяет понять движение времени.
«Если бы в нашей стране существовала живая литературная критика и естественно и свободно выражалось общественное мнение, этот роман вызвал бы бурю: и хулы, и хвалы. <…>С жестокой беспощадностью, позволительной только искусству, автор романа всматривается в человека — в его интимных, низменных и высоких поступках и переживаниях. А в общем основные темы просты и жутковаты: любовь, насилие, смерть», — так анонсировало этот роман издательство имени Сабашниковых в 1992 г.
К сожалению, по независящим от автора и издательства обстоятельствам, роман так и не вышел в те годы. Первая его публикация состоялась в 1996 г. в журнале «Октябрь» (очень сокращенный журнальный вариант). Эта публикация, однако, обратила на себя внимание критики, роман был номинирован на премию Букера. В 2004 г. расширенный (хотя по-прежнему неполный) вариант романа отдельным изданием вышел в издательстве РОССПЭН, имел рецензии, хотя, как кажется, публику могло смущать, что художественный текст был опубликован в сугубо научном издательстве (серия «Письмена времени»), где место отводится не собственно прозе, а дневникам, мемуарам etc. Тем самым «Крепость» (как писала критика) стала в восприятии публики прежде всего «документом эпохи», а ее художественное начало поневоле отошло на второй план.
Предлагая вниманию читателя новое издание «Крепости» в авторском, полном варианте, наше издательство уверено, что роман будет прочитан людьми, сохранившими вкус к высокой трагедийно-философской прозе.
Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас Отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, Тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.
А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву
Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни, вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. <…> «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. — «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали.
А. С. Пушкин. Капитанская дочка
Глава I
Урок литературы
Лучше в дом не пустить, чем выгнать из дому гостя
Овидий. «Скорбные элегии». Кн. V. Элегия 6.
Прозвенел звонок, в вестибюле и на первом этаже дребезжащий, громкий; оглушающий даже, а наверху, в старших классах, еле слышный. Но ученик проходящие сорок пять минут не по часам, а телом за десять лет научается отмерять. Поэтому только донеслась первая звоночная трель, все кинулись укладывать тетрадки и учебники в портфели, и защелкали колпачки, надеваясь на авторучки. А боксер-перворазрядник Юра Желватов, с розовыми губами (на нижней белел маленький шрам), с постоянной наглой улыбкой, смотревший всегда поверх учителей, приподнялся, потянулся и зевнул, не прикрывая рта.
«Должен бы взъерепениться», — подумал Петя о литераторе. Но тот смолчал, лишь иронически скосил глаза на зевавшего. Он вообще многое прощал Желватову, считая его представителем простого народа. «Как учит нас русская классика, — повторял часто литератор, — даже согрешив, русский народ не примет своего греха за идеал и правду. Зато образованный интеллигент не сочтет свой проступок проступком и всегда найдет себе оправдание». Образованным он считал Петю, поэтому относился к нему не очень-то приязненно.
Петя чувствовал к Юрке странное любопытство, хотя избегал всяких возможностей приятельства. И дело не только в том, что Желватов год или два назад пытался ухаживать за Лизой, даже в кино пару раз приглашал, но потом отвалил: слишком высокомерно держала себя с ним Лиза. К Пете Желватов относился снисходительно, почти добродушно, мучительно напоминая ему Валерку, парня из пионерлагеря, который на общем однодневном походе попал в группу с Петей (правда, Петя тогда был первоклассником, а Валерке уже лет четырнадцать стукнуло). Пока шли широкой лесной дорогой, разбились на пары, группки, компании. Петя держался поближе к пионервожатой. Их догнали двое ребят из старшего отряда. Валерка сразу же обратил внимание на Петины глаза — карие, страдальческие, с выражением мировой скорби и робости, — которые уже тогда нравились девочкам. И, заигрывая с их красивой пионервожатой, Валерка все шутил со своим приятелем Славиком, указывая на беспомощного первачка, тащившегося рядом: «Армяшка?» — «Жопа деревяшка», — отвечал приятель. «Грузин?» — спрашивал, улыбаясь, шутник. «Жопа резин», — следовал отклик. «А может, жид?» — «По веревочке бежит». При этом Петя не ощущал враждебности в их голосе, напротив, даже какое-то дружелюбие. И, как сейчас вспоминал с содроганием, он в ответ расплывался в неосмысленной улыбке. «Слушай, еврейчик, — смеялся Валерка, — ты бы ехал в свое еврейство, а иначе тебя кастрировать придется. Чего ты тут, в русском пионерлагере, делаешь?» Они не знали, Петя это различал в их интонации, доподлинно его происхождения, просто веселились. А он не понимал смысла их угроз, об одном догадываясь: ребята эти не видели разницы между сказанным и сделанным. Но тогда ему казалось, что случись что-нибудь, Валерка бы не дал его в обиду.
Да и потом, после этого похода, относился он к Пете незло и даже покровительственно, играл, например, с ним в шахматы, о книжках беседовал. Возможно, Петя и не запомнил бы Валерку, если бы не увезла того милиция прямо из пионерлагеря за «попытку ограбления с покушением на убийство» учительницы из соседней с лагерем деревни. На общей линейке Валерку исключали из пионеров, начальник лагеря нервничал, говорил, что такие, как Валерка, — выродки и ублюдки, что они держат свои бандитские дела в темноте и в тайне и потому они у них получаются, а дневного света боятся, потому что каждый бы остановил их, схватив за руку. Он как будто не знал, что ограбление и удар гирькой по голове были не ради денег, а на спор, и весь лагерь гадал, сделает или не сделает, или только хвастает.
Петя запомнил Валерку, и поэтому при каждом дружеском жесте Юрки Желватова отступал, прячась в непонимание, в книги, в свою физику и математику, изображая человека не от мира сего. Да и, в самом деле, чуждо было ему — курить, сквернословить, ходить куда-то компаниями по вечерам. Не умел он этого. Как не умел и не хотел заниматься комсомольской работой, не метил и в спортсмены, будучи физически незакаленным и нетренированным, довольствуясь своим превосходством в учебе, думая про себя, что он, единственный из всех, на самом важном и правильном пути.

