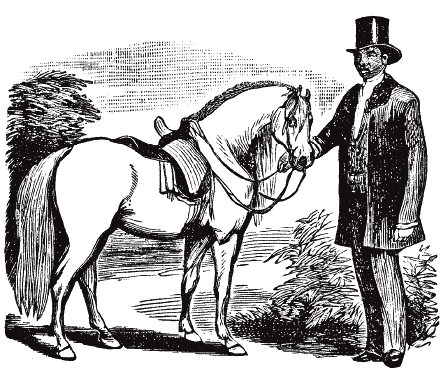Порукой этому наша энергия и упорство! И в общем, Огюстэн, наш спор ни к чему. Мы десятки раз бродили с тобой по этому пути и всегда попадали в тупик… Что ты скажешь по поводу партии в триктрак?
[26]
Братья поднялись на веранду и уселись за бамбуковым столиком, разложив перед собою доску для игры.
— Знаешь, Огюстэн, — снова заговорил Альфред, расставляя на доске шашки, — я бы на твоем месте сделал одну вещь…
— Так, так… Сразу узнаю тебя: ты обязательно должен что-то предпринять!
— Да нет, серьезно, сделай опыт: дай твоим неграм образование. Предоставь им возможность подняться!
И пренебрежительная улыбка скользнула по губам Альфреда.
— Дать им возможность подняться, когда они раздавлены гнетом социальной несправедливости! С таким же успехом можно бы взвалить на их плечи Этну и предложить им встать и пойти! Человеку в одиночку не под силу бороться с обществом, когда оно против него. Чтобы образование и воспитание дало настоящие результаты, оно должно быть делом государства или, во всяком случае, нужно, чтобы государство не ставило этому препятствий.
— Тебе бросать кости! — сказал Альфред.
Братья погрузились в игру, пока топот приближающихся к дому лошадей не отвлек их от этого занятия.
— Вот и дети возвращаются, — произнес Огюстэн. — Погляди, брат, видел ли ты что-нибудь прекраснее?
Двое подростков были действительно очаровательны. Энрик, с черными до блеска кудрями, сверкающим взором и радостной улыбкой, склонялся к своей прелестной кузине. Ева была в синей амазонке, того же цвета шапочка оттеняла ее золотистые волосы. Яркий румянец, загоревшийся на ее щеках от быстрой езды, еще больше подчеркивал прозрачную белизну ее кожи.
— Какая красавица, клянусь богом! — воскликнул Альфред. — Не одно сердце доведет она до отчаяния в своей жизни!
— До отчаяния… — повторил Сен-Клер голосом, в котором прозвучала неожиданная боль. — Один бог знает, как я этого страшусь…
И он сбежал вниз, чтобы принять дочь в свои объятия, когда она соскакивала с лошади.
— Ева, родная, ты не утомилась? — спросил он, крепко прижимая ее к своей груди.
— Нет, папа! — ответила девочка.
Но Сен-Клер чувствовал, как тяжело и порывисто она дышит, и тревога все больше и больше закрадывалась в его душу.
— Зачем ты ездишь так быстро, детка? — произнес он с укором. — Ведь ты знаешь, что тебе это вредно!
— Так весело было скакать, папочка! Мне так нравится.
Сен-Клер на руках отнес ее на кушетку.
— Энрик, — сказал он, поудобнее укладывая ее, — ты должен беречь Еву, ей нельзя так быстро ездить…
— Следующий раз я буду это помнить, — виновато ответил Энрик, усаживаясь подле кушетки.
Еве стало лучше. Оба брата снова уселись за игру, предоставив детей самим себе.
— Знаешь, Ева, — сказал Энрик, — мне очень грустно, что папа пробудет здесь всего два дня. Теперь так долго не придется увидеться с тобой! Если б я остался здесь, я постарался бы быть добрым, не бить больше Додо. Мне не хочется причинять ему боль, но я такой вспыльчивый… Поверь, я вовсе не так уж скверно обращаюсь с ним… иногда даю ему деньги на леденцы и одеваю его хорошо, ты ведь видела? В общем, он даже счастлив.
— А был бы ты, Энрик, счастлив, если б около тебя не было никого, кто бы любил тебя?
— Я? Нет, конечно.
— Но ведь ты отнял Додо от тех, кто его любил, и теперь он не видит ни любви, ни ласки… А этого ты ничем не можешь ему возместить!
— Да, в самом деле, не могу… Не могу же я любить его? Да и никто не может!
— Почему не можешь?
— Любить Додо? Я просто не понимаю тебя, Ева! Он мне нравится… но любить! Да неужели ты любишь своих негров?
— Конечно, люблю.
— Какая чепуха!
Ева ничего не ответила, но ее устремленные вдаль глаза налились слезами.
— Ну, тогда, — проговорила она, — люби Додо ради меня, Энрик. И будь добр к нему.
— Ради тебя я готов полюбить хоть весь свет! — воскликнул мальчик. — Ведь ты самое чудесное создание, какое я видел в своей жизни!
— Меня очень радует твое обещание, Энрик, — сказала Ева, повеселев. — Надеюсь, ты сдержишь его.
Обеденный колокол прервал их разговор.
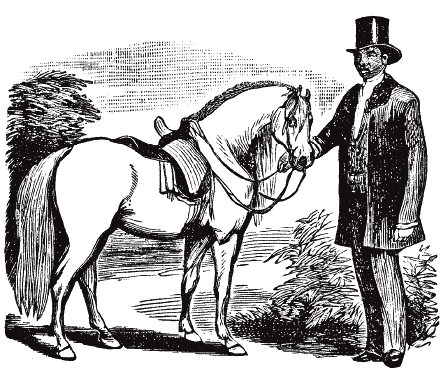
Глава XXIV
Зловещие предзнаменования
Через два дня после описанных событий Альфред и Огюстэн расстались. Ева, возбужденная присутствием двоюродного брата, увлекалась играми и верховой ездой больше, чем позволяли ее силы. После отъезда Энрика она стала быстро слабеть. Сен-Клер решился наконец посоветоваться с врачом. До сих пор он все время воздерживался от этого. Позвать врача — не значило ли это стать перед лицом страшной истины? Но так как Еве стало настолько плохо, что ей пришлось два дня пролежать в постели, врач все же был приглашен.
Мари Сен-Клер не замечала до сих пор, как быстро тают силы ее ребенка. В этот период она была целиком поглощена изучением двух новых болезней, которыми, по своему убеждению, была поражена. Мари представить себе не могла, чтобы кто-нибудь мог страдать так, как она. Когда дело касалось других, она утверждала, что это просто лень или отсутствие воли.
— Если бы они болели всеми болезнями, которые мучают меня, — твердила она, — они поняли бы, что это совсем другое дело!
Мисс Офелия не раз пыталась пробудить у матери опасения за здоровье дочери.
— Ничего у нее нет, — неизменно отвечала Мари. — Она бегает, играет…
— Да, но этот кашель…
— Кашель! Не говорите мне о кашле. Я всю жизнь кашляла. Когда мне было столько лет, сколько Еве, все предполагали, что меня подтачивает чахотка. Мэмми проводила целые ночи у моей постели. О, этот кашель Евы — пустяк!
— А слабость… прерывистое дыхание?
— О, со мной это тоже бывало в детстве. Это нервное, чисто нервное!
— Да, но по ночам она потеет…
— Вот уж десять лет подряд, как я тоже потею. Часто все белье промокает, ни одной сухой нитки не остается! По сравнению с этим пот Евы — ерунда!
Но когда болезнь Евы стала очевидной, когда был вызван врач, Мари впала в другую крайность. Она отлично это знала, говорила она. Она всегда предчувствовала, что ей выпадет на долю стать несчастнейшей из матерей. Ей, тяжело больной, суждено увидеть, как единственное возлюбленное дитя раньше ее покинет этот мир… И Мари целыми ночами терзала Мэмми, а днем жаловалась на новое постигшее ее несчастье.