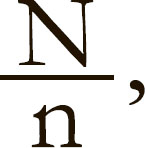В этом смысле данные Юнгером характеристики не онтичны (как онтичен, например, преодолевающий нигилизм сверхчеловек у Ницше), а полностью метафизичны в начальном смысле этого слова – то есть нигилистически отклоняют саму проблему заграждения Бытия сущим точно так же, как захваченное нигилизмом описанное Юнгером общество отклоняет осмысление самого существа всего происходящего с ним. («Согласно этому посылу, само человеческое представление метафизично», – говорит Хайдеггер, имея в виду не то, что метафизично любое человеческое представление о чем угодно и по любому поводу, а то, что сам юнгеровский заход находится на том уровне, где он оказывается соразмерным характерному заблуждению, воспроизводимому в момент человеческого размышления о «человечестве», «цивилизации», «ее кризисе» и т. п. – то есть «антропософоразмерная» по своему характеру мысль как таковая
[20].)
Таким образом, при анализе юнгеровского текста нигилизм обнаруживается Хайдеггером на разных повествовательных уровнях дважды – в качестве предмета юнгеровского описания и в примененных последним средствах этого описания. Тем самым предположительный «референт» нигилизма очевидно исчезает: если описание самого Юнгера не достигло цели по причинам, указанным Хайдеггером (повествование, уступившее в своих выразительных средствах искусу описываемого явления, является недействительным как непоказательное – в точности как текст, цвет шрифта которого совпадает с цветом фона), то «нигилизма» нет, таким образом, и на уровне возможности его негативной диагностики в самом акте юнгеровского высказывания. У нигилизма тем самым не обнаруживается никакого содержательного определения – ни положительного, ни негативного, – поскольку обозначает он теперь не явление, пусть даже не вполне еще осмысленное, а ситуацию, в которой он оказывается негативной рекурсией самого же себя.
Предпринятая Хайдеггером процедура вменения этой рекурсии оказывается оригинальной – она не является ни «снятием» понятия, ни осуществлением подозрения по марксистскому образцу (где теоретизирующий агент может быть обвинен в скрытой политической принадлежности к тому же самому явлению, которое им разоблачается – например, в отрицаемой им «буржуазности» своих воззрений), ни психоаналитическим обнаружением за одним и тем же содержанием «другого акта».
Сказать, что «нигилизм» принимает таким образом вид типичной соссюровской формулы:
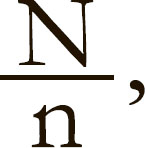
также нельзя, поскольку речь идет не о том, что «один из» нигилизмов – в частности, описываемый самим Юнгером – выступает на верхнем уровне означающего, тогда как хайдеггеровская операция вскрытия нигилистического характера самого юнгеровского описания соответствовала бы означаемому как учрежденной Юнгером ситуации высказывания. Строго говоря, ни одна из процедур их разведения после хайдеггеровского вмешательства недействительна структурно.
Нельзя сказать, что Хайдеггер открыто признает наличие этого затруднения, но сам тон «О линии», сопровождаясь многочисленными оговорками, выдает некоторое несвойственное ему смятение. Пожелав автору всего самого лучшего и предложив ему «дальнейшее союзничество», он заканчивает эссе, коротко посетовав: «То, что пыталось представить письмо, пожалуй, слишком быстро оказалось недостаточным»
[21], имея в виду как юнгеровский, так и собственный текст.
Поэтому только лишь кажется, что Хайдеггер восстанавливает в отношении «существа нигилизма» некую «верную» ось понимания означенного этим термином явления – на деле то, к чему его критика приходит, является тупиком применения означающего как такового. Вину за появление этого тупика Хайдеггер полностью возлагает на Юнгера, но это никак не решает вопрос – в особенности, учитывая, что вклад Хайдеггера также не смог остаться в истории деконструкции в качестве последнего слова: Деррида усматривает в его повествовании точно такие же нигилистические проявления в виде ничем не оправданной ставки на «благую» суть Бытия в опоре на вносимую последним «связанность», «согласованность», недопущение в нем какой-либо «нехватки», в том числе в психоаналитическом смысле, рассмотренном Деррида в «Призраках Маркса», где получает итог вся ранее развиваемая им критика проекта фундаментальной онтологии.
Таким образом то, что Хайдеггер полагал предпринятым им по данному Юнгером поводу онтологическим размышлением с вытекающими из него сущностными уроками, на самом деле было произведенным им воссозданием уже наличествующего, но до поры скрытого в ситуации высказывания некоего структурного эксцесса, констатация которого оказалась чрезвычайно близкой тем «конкретным неразрешимостям», на основе которых позитивно или негативно функционировали структуралистские теории, воссоздавая и демонстрируя необратимость затруднения не через допущение некоей трансцендентной необходимости, а внутренними, имманентными средствами
[22].
Взятая в этом свете метафизика, таким образом, представляет собой не обобщенный метод мысли о сущем, но остановку перед невольно созданной ей же самой затруднительной ситуацией, связанной с использованием термина, на который делается основная объяснительная ставка.
При этом, как правило, редко делают надлежащий акцент на моменте, который Деррида удалось продемонстрировать отчетливее прочих философов, так или иначе вопросом высказывания обеспокоенных. Принято дежурно упрекать Деррида, понижая тем самым статус совершенного им открытия, в пропаганде сведения «реальности к тексту», недобросовестно опираясь при этом на фразу «il n’y a pas de hors-texte» из «О грамматологии» и переводимую как «вне текста ничего не существует». В момент озвучивания этого упрека по всей видимости воображают, что речь у Деррида идет о воссоздании некоей всеобъемлющей текстуальной вселенной наподобие «бесконечной книги» в духе Умберто Эко (который в этом смысле «структуралистом» в принципиальном смысле этого определения, непременно предполагающем некий базовый структурный конфликт и подобающее ему смещение политического взгляда, как раз не являлся). Фразу эту неоднократно пытались индульгировать попытками ее объяснения, которые примечательным образом всегда оказывались теоретически ниже того, что сам Деррида мог предложить, – ее трактовали, например, как призыв к необходимости добросовестной опоры на контекст и т. д., как если бы Деррида был школьным учителем литературы.
На деле мысль, к которой подводит эта фраза, попросту непонятна без всего дерридианского корпуса, в котором из приводимого Деррида материала вытекает наблюдение, что метафизика, во-первых, является не общей «формацией мысли», а ее «конкретной ситуацией», и, в частности, ситуацией высказывания, и что, во-вторых, она правомочна и имеет следствия в совершенно определенной сфере высказываний, а именно в сфере публичной речи, в которой Деррида обнаруживает функционирование совершенно особой интенции, ранее в ее анализе никем не описываемой.