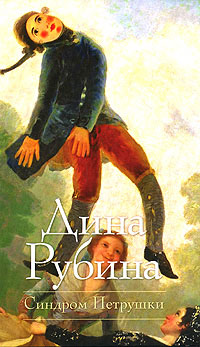
«Однажды, силою своей превращая воздух в воду, а воду в
кровь и уплотняя в плоть, создал я человеческое существо – мальчика, тем самым
сотворив нечто более возвышенное, чем изделие Создателя. Ибо тот создал
человека из земли, а я – из воздуха, что много труднее…»
Тут мы поняли, что он (Симон Волхв) говорил о мальчике,
которого убил, а душу его взял к себе на службу.
Псевдоклементины (II век н. э.)
Часть первая
Глава первая
«…И будь ты проклят со всем своим балаганом! Надеюсь,
никогда больше тебя не увижу. Довольно, я полжизни провела за ширмой
кукольника. И если когда-нибудь, пусть даже случайно, ты возникнешь передо
мной…»
Возникну, возникну… Часиков через пять как раз и возникну,
моя радость.
Он аккуратно сложил листок, на котором слово «кукольник»
преломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний карман куртки и
удовлетворенно улыбнулся: все хорошо. Все, можно сказать, превосходно, она
выздоравливает…
Взглядом он обвел отсек Пражского аэропорта, где в ожидании
посадки едва шевелили плавниками ночные пассажиры, зато горячо вздыхал кофейный
змей-горыныч за стойкой бара, с шипением изрыгая в чашки молочную пену, и вновь
принялся рассматривать двоих: бабушку и внучку-егозу лет пяти.
Несмотря на предрассветное время, девочка была полна
отчаянной энергии, чего не скажешь о замордованной ею бабке. Она скакала то на
правой, то на левой ноге, взлетала на кресло коленками, опять соскальзывала на
пол и, обежав большой круг, устремлялась к старухе с очередным воплем: «Ба! А
чем самолет какает, бензином?!»
Та измученно вскрикивала:
– Номи! Номи! Иди же, посиди спокойно рядом, хотя б
минутку, о-с-с-с-поди!
Наконец старуха сомлела. Глаза ее затуманились, голова
медленно отвалилась на спинку кресла, подбородок безвольно и мягко опустился,
рот поехал в зевке да так и застопорился. Едва слышно, потом все громче в нем
запузырился клекот.
Девочка остановилась против бабки. Минуты две неподвижно
хищно следила за развитием увертюры: по мере того как голова старухи
запрокидывалась все дальше, рот открывался все шире, в контрапункте храпа
заплескались подголоски, трели, форшлаги, и вскоре торжествующий этот хорал,
даже в ровном гуле аэропорта, обрел поистине полифоническую мощь.
Пружиня и пришаркивая, девочка подкралась ближе, ближе…
взобралась на соседнее сиденье и, навалившись животом на ручку кресла, медленно
приблизила лицо к источнику храпа. Ее остренькая безжалостная мордашка излучала
исследовательский интерес. Заглянув бабке прямо в открытый рот, она застыла в
благоговейно-отчужденном ужасе: так дикарь заглядывает в жерло рокочущего
вулкана…
– Но-ми-и-и! Не безззобразззь… Броссссь
ш-ш-ша-лить-сссссь… Дай бабуш-шшш-ке сссс-покойно похрапеть-ссссь…
Девочка отпрянула. Голос – шипящий свист – раздавался не из
бабкиного рта, а откуда-то… Она в панике оглянулась. За ее спиной сидел
странный дяденька, похожий на индейца: впалые щеки, орлиный нос, вытянутый
подбородок, косичка на воротнике куртки. Самыми странными были глаза: цвета
густого тумана. Плотно сжав тонкие губы, он с отсутствующим видом изучал табло
над стойкой, машинально постукивая пальцами левой руки по ручке кресла. А там,
где должна была быть его правая рука… – ужас!!! – шевелилась,
извивалась и поднималась на хвосте змея!
И она шипела человечьим голосом!!!
Змея медленно вырастала из правого, засученного по локоть
рукава его куртки, покачивая плоской головой, мигая глазом и выбрасывая жало…
«Он сделал ее из руки!» – поняла девочка, взвизгнула,
подпрыгнула и окаменела, не сводя глаз с этой резиново-гибкой, бескостной руки…
В окошке, свернутом из указательного и большого пальцев, трепетал мизинец,
становясь то моргающим глазом, то мелькающим жалом. А главное, змея говорила
сама, сама – дядька молчал, чесслово, молчал! – и рот у него был сжат, как
у сурового индейца из американских фильмов.
– Ищо! – хрипло приказала девочка, не сводя глаз
со змеи.
Тогда змея опала, стряхнулась с руки, раскрылась большая
ладонь с длинными пальцами, мгновенно и неуловимо сложившись в кролика.
– Номи, задира! – пропищал кролик, шевеля ушами и
прыгая по острому колену перекинутой дядькиной ноги. – Ты не одна умеешь
так скакать!
На этот раз девочка впилась глазами в сжатый рот индейца.
Плевать на кролика, но откуда голос идет? Разве так бывает?!
– Ищо! – умоляюще вскрикнула она.
Дядька сбросил кролика под сиденье кресла, раскатал рукав
куртки и проговорил нормальным глуховатым голосом:
– Хорош… будь с тебя. Вон уже рейс объявили, растолкай
бабку.
И пока пассажиры протискивались мимо бело-синих приталенных
стюардесс, запихивали сумки в багажные ящики и пристегивали ремни в своих
креслах, девочка все тянула шею, пытаясь глазами отыскать чуднóго
индейца с косичкой и такой восхитительной волшебной рукой, умеющей говорить на
разные голоса…
А он уселся у окна, завернулся в тонкий плед и мгновенно
уснул, еще до того, как самолет разогнался и взмыл, – он всегда засыпал в
полете. Эпизод со змеей и кроликом был всего лишь возможностью проверить на
свежем зрителе некую идею.
Он никогда не заискивал перед детьми и вообще мало обращал
на них внимания. В своей жизни он любил только одного ребенка – ту, уже
взрослую девочку, что выздоравливала сейчас в иерусалимской клинике. Именно в
состоянии начальной ремиссии она имела обыкновение строчить ему гневные окончательные
письма.
* * *
Привычно минуя гулкую толкотню зала прибытия, он выбрался
наружу, в царство шершавого белого камня, все обнявшего – все, кроме разве что
неба, вокруг обставшего: стены, ступени, тротуары, бордюры вкруг
волосато-лакированных стволов могучих пальм – в шумливую теплынь приморской
полосы.
Всегда неожиданным – особенно после сирых европейских небес
– был именно этот горячий свет, эти синие ломти слепящего неба меж бетонными
перекрытиями огромного нового терминала.
Водитель первой из вереницы маршруток на Иерусалим что-то
крикнул ему, кивнув туда, где, оттопырив фалды задних дверец, стоял белый
мини-автобус в ожидании багажа пассажиров. Но он лишь молча поднял ладонь: не
сейчас, друг.
Выйдя на открытое пространство, откуда просматривались
хвосты самолетов, гривки взъерошенных пальм и дельфиньи взмывы автострад, он
достал из кармана куртки мобильный телефон, футляр с очками и клочок важнейшей
бумаги. Нацепив на орлиный нос круглую металлическую оправу, что сразу придало
его облику нарочитое сходство с каким-то кукольным персонажем, он ребром ногтя
натыкал на клавиатуре номер с бумажки и замер с припаянным к уху мобильником,
хищно вытянув подбородок, устремив бледно-серые, неизвестно кого и о чем
умоляющие глаза в неразличимую отсюда инстанцию…

