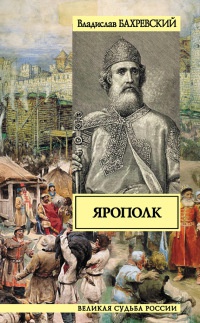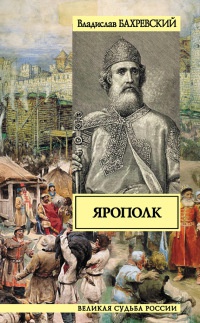
Детство Баяна
Пролог
Река, переполненная водою, как любовью, несла весеннюю дань солнцу. Травы, еще не забывшие гнет сугробов, тянулись неистово. Вишневые рощи в оврагах вскипали благоуханным половодьем.
Одолевший за ночь всех супротивников, соловей гремел победной трелью. Да и смолк вдруг, озадаченный хрустальным, с искорками, голосом, будто пустили солнечного зайчика. Зайчик этот, совсем зайчишка, кинулся не в чащобу, а сразу в небеса, стремясь достигнуть самого солнца. Волхвы переглянулись.
– Се голос отрока.
– Не отроковицы ли?
– Отрока, – сказал Благомир. – Да вот он!
На кургане, подняв руки к солнцу, стоял тоненький, будто стебелек, мальчик. Пел, ликуя, ибо пришла пора ликовать: весна.
– Он – наш! – сказал Благомир и поправил на челе золотой обруч верховного волхва.
Семейное сокровище
На зеленом долу зеленая гора, на горе боры, на борах на кудрявых небо опочило. От края до края ни единой хмари – морщинки, ни единого пятнышка – птицы коршуна.
Под ярым солнцем трава парная, тропа горячая, ласковая. По лугам – ужом, на гору – стрелой, перед бором – запинаючись. Да и нет ее! Заглохла.
Повернулся отрок к матушке. У матушки глаза добрые, смелые.
– Тропа хранит от зверя, да уводит от сокровенного. Дальше пойдем по нехоженому.
Поклонилась бору, и сынок поклонился. Расступились перед ними деревья, будто дверь отворилась. Под узорчатым пологом – безмолвие. Ни единый лист не шушукнется, не шелохнется, трава как на страже стоит. Деревья друг за друга хоронятся, а сами – глядят! Кто пришел?
Зашумели вершины, давай мести небо. Великий гул поднялся, затрубили боры, будто тур с туром грудь в грудь сошлись.
Заметалось сердечко у дитяти, потянулся рукой к материнской юбке.
– Страшно, что ли? – улыбнулась матушка.
Опустил глаза.
– Это не буря, сынок. Радуется батюшка лес нашему приходу.
Заплела косицу на ракитовом кусте. Погладила сына по кудряшкам.
– Ложись под ракиту. Послушай, что бор сказывает. Погляжу пойду.
Делать нечего, лег.
– Закрой глаза, – попросила матушка. – Слушай.
И был шум с одного края земли до другого края. Был посвист крыльев, уж таких крыльев, каких нет у птиц, разве что у туч грозовых. Рокотали рокоты, будто струны гуслей, и слышал он речи, ладные, мудрые, льющиеся потоком, кто говорит, где – не понятно. Ни единого слова не мог различить.
У детской обиды слезы близехонько, но вдруг пал вихрь с неба на землю, ударил дерево о дерево, и почудилось – зовут:
– Бааа-ян! Бааа-ян!
– Мама! – вскрикнул отрок. – Кто меня кличет?
Вскочил на ноги – уж такая в бору тишина: крот в норе повернулся, а его слышно.
Матушка рядом, к дубу щекой припала. Кинулся к родной:
– Кто кликал-то меня?
– Судьба.
Незнакомое слово хлестнуло по сердцу, как прутик. Поостерегся спросить, что оно такое – судьба.
Ухватила матушка сына за руку, повела в дебри дремучие. Торопится, а руки не отпускает. Выбрались к свету, к ручью, а тут – гарь. Лес сожгли для будущего поля, но пожарища уж и не видно. Поросла гарь кипреем.
– Смотри, сынок! – шепнула матушка.
Вошла, как в пламя, в заросли кипрея.
Медленно, медленно поднялись над розовыми цветами белые руки, еще медленнее сошлись. Как в светильнике затрепетал в материнских ладонях розовый огонек.
– Иди сюда! – услышал он и в тот же миг увидел – лису.
Опершись передними лапами о дерево, лиса тянула мордочку, подглядывала.
– Матушка! – прошептал Баян.
– Я вижу, сынок. Звери всегда приходят посмотреть.
– А что это?
– Душа кипрея.
– Тебе не горячо?!
– Ласково. Хочешь подержать?
Огонь и впрямь не жег. Трепетал, как бабочка крыльями.
– Матушка, а кипрей-то увядает! – увидел Баян. – Можно, я верну ему душу?
– Верни.
– Я не дотянусь.
– Сам преклонится пред тобою.
Пчелы облепили цветок, будто он источал особый зовущий нектар.
Получилось. И в тот же миг сверкнула молния, треснул над головою гром, посыпался крупный окатный жемчуг из жемчужной, неведомо откуда взявшейся тучки.
Они шли домой, а за ними, прячась среди деревьев, бежала рыжая лиса.
– Матушка, а что можно сделать с душою цветка?
– Не знаю. Бабушка научила меня брать душу, а что с нею делать – обещала открыть, когда я вырасту… Говаривала: тайны нашей семьи сокровенные, за семью замками, за семью дверями.
– Бабушку убила стрела Перуна?
– Молния, сынок. В нашем роду старые люди сгорают живыми.
Спрятанные слезы
Возвращались из дубравы лугами, обходя старицы
[1]
.
Ложились в голубые потоки колокольчиков, слушали дивные звоны цветов. Не всякое ухо уловит, как звенят, еще меньше люди понимают – о чем.
Пробирались под зонтиками пряных цветущих кубышек, по траве-мураве, по влажному, по медовому золоту куриной слепоты выходили опять же к старицам.
Глядели на изумрудные косы водорослей, дышали чистым, как снег, теплым, как солнце, запахом белых лилий.
Лягушки дремали в разогретой воде. Наслаждались молчанием. Лишь изредка в сладостном забытьи вскурлыкивала иная по оплошке, но тишины не нарушала.
Беззвучные темно-синие, с темно-синими крыльями стрекозы летали над сочно-зелеными листьями аира. Прятались, как за деревьями, среди камышинок утята. Притворялась корягой выпь.
В небе плавал орел, и так было хорошо в напоенной светом, в родной степи, как бывает после зимы и долгого разлива.
– Матушка, почему ты не поешь? – спросил отрок.
Слезы так и покатились из материнских глаз.
– Матушка! Матушка! – испугался Баян.
– Да ты хоть помнишь, как зовут меня?!
Опустилась на землю, плакала горько, будто сама ребенок.
– Матушка! – бегал вокруг Баян, не понимая, что стряслось, и не умея помочь.