Сидевшая на плече Мордлюка обезьянка покивала и принялась выуживать что-то из шевелюры хозяина, морщинистые и все же изящные пальчики ее шарили там и сям, нежные, но пытливые, точно пальцы любовника.
– Ты груб почти так же, как голоден я, – сказал Титус. – О том, что творится в моей душе, и о моем происхождении ты знаешь не больше твоей обезьянки. И насколько это зависит от меня, так оно и будет. Ты только выведи меня отсюда. Омерзительный дом, да и пахнет в нем, как в больнице. Ты был ко мне добр, господин Мозглюк, но мне не терпится распрощаться с тобой. Куда я могу уйти, где укрыться?
– Иди со мной, – сказала Юнона. – Тебе нужна чистая одежда, еда и убежище.
Она повернула роскошную голову к Мордлюку:
– Можем мы незаметно выбраться отсюда?
– Давайте делать не больше одного хода за раз, – ответил Мордлюк. – И первый состоит в том, чтобы найти ближайший лифт. В этот час весь дом уже спит.
Он подошел к двери, беззвучно открыл ее и обнаружил согнувшегося пополам молодого человека. Оторвать глаз от замочной скважины, не говоря уж – сбежать, тот не успел.
– Ну, клянусь тончайшей духовитостью горностая… – сказал Мордлюк, держа молодого человека за лимонно-желтые отвороты (молодой человек служил в этом доме ливрейным лакеем) и понемногу втаскивая его в комнату. – Юнона, дорогая, возьми с собой Горгонпасть, высуньтесь с ним из окна и полюбуйтесь темнотой. Это не займет много времени.
Титус и Юнона, подчинившиеся его на удивление повелительному голосу – ибо при всей нелепости интонаций, в нем присутствовала властность, – услышали странное шарканье, и следом…
– А теперь, Горгонпласт, оставь даму на попечение ночи и подойди ко мне.
Обернувшись, Титус увидел, что лакей практически гол. Мордлюк стряс с него всю одежду, как ветер стрясает с осеннего дерева золотую листву.
– Сними отрепья и надень ливрею, – сказал Мордлюк Титусу и повернулся к лакею: – Надеюсь, сильно ты не озябнешь. Я ничего против тебя не имею, дружок, но у меня нет выбора. Этому молодому господину необходимо, видишь ли, выскользнуть отсюда… Поторопись, «Горгон», – гаркнул он. – Меня ждет машина, и она уже беспокоится.
Мордлюк не знал, что в самую эту минуту первые пряди зари уже пробились сквозь низкие тучи, осветив и несколько мерцавших, как привидения, аэропланов, и его автомобиль. Голый, как лакей, голый под первыми лучами солнца, автомобиль походил на богохульство, на глумление, и нос его указывал на элегантные самолеты, форма машины, ее цвет, остов и сухожилия, череп, обтянутые кожей мышцы, обвислое, распутное брюхо, общий облик ее приводили на ум кровь и резню в южных морях. Так ожидала она далеко внизу под комнатой, в которой стоял ее капитан.
– Переодевайся, – сказал Мордлюк. – Мы не можем ждать тебя целую ночь.
Что-то начинало жечь желудок Титуса. Он почувствовал, как кровь отливает от его лица.
– Так ты не можешь ждать меня целую ночь? – переспросил он так, что сам не узнал своего голоса. – Мордлюк, зоологический человек, торопится. Но знает ли он, с кем говорит? Ты это знаешь?
– В чем дело, Титус? – спросила Юнона, обернувшаяся на его слова от окна.
– В чем дело? – крикнул Титус. – Я скажу вам, мадам. Дело в невежестве этого громилы. Да известно ли ему, кто я?
– Как мы можем знать о тебе хоть что-то, дорогой, если ты нам ничего рассказываешь? Ладно, ладно, не дрожи так.
– Он хочет убежать, – сказал Мордлюк. – И не хочет сидеть в тюрьме – или уже захотел? А? Ведь тебе же хочется выбраться из этого дома?
– Но не с твоей помощью, – крикнул Титус, хоть и понимал, крича, что ведет себя из рук вон плохо. Он вгляделся в исчерченное морщинами лицо, в гордый румпель носа, в живой свет в глазах, и искра взаимного узнавания, казалось, проскользнула между ним и Мордлюком. Но было уже слишком поздно.
– Ну так и черт с тобой, мальчик, – произнес Мордлюк.
– Я возьму его к себе, – сказала Юнона.
– Нет, – ответил Мордлюк. – Пусть идет. Ему нужен урок.
– Урок, будь ты проклят! – воскликнул Титус, и все его затаенные чувства прорвались наружу. – Что сам-то ты знаешь о жизни, насилии, вероломстве? О безумцах, уловках, предательстве? Моем предательстве. Руки мои были липки от крови. Я любил и убивал в моем царстве.
– Царстве? – переспросила Юнона. – Твоем царстве?
Подобие пугливой любви наполняло ее глаза.
– Я позабочусь о тебе, – сказала она.
– Нет, – сказал Мордлюк. – Пусть идет своим путем. Если сейчас ты возьмешь его к себе, он никогда тебе этого не простит. Пусть будет мужчиной, милая Юнона, – или тем, что ему представляется мужчиной. Не высасывай его кровь, дорогая. Не когти его слишком рано. Помнишь, как ты убила нашу любовь посредством пряностей – а? Моя прелестная вампирша.
Титус, побелевший от недоумения, поскольку ему казалось, что Юнона и Мордлюк говорят на каком-то своем, только им ведомом языке, шагнул к улыбающемуся мужчине, чуть отвернувшему лицо в сторону, чтобы обезьянка могла прижаться к нему шерстистой щечкой.
– Ты назвал эту даму вампиршей? – прошептал он.
Мордлюк неторопливо покивал, улыбаясь.
– Именно так, – признал он.
– Он не имел в виду ничего дурного, – сказала Юнона. – Титус! О, дорогой… О…
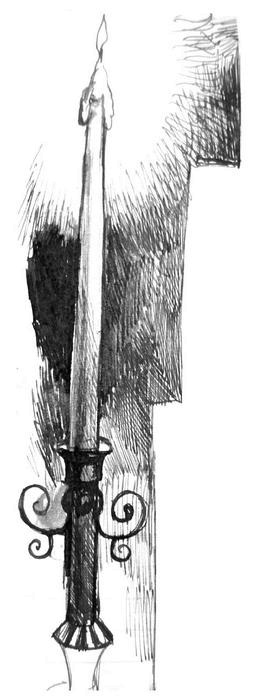
Однако Титус уже выбросил вперед кулак – и с такой стремительностью, что только чудом каким-то не попал в цель. Но вот не попал же, потому что Мордлюк поймал кулак, как если б тот был брошенным камнем, подержал его, точно в тисках, а затем без видимого усилия неспешно подтянул Титуса к двери, в которую и вытолкнул юношу, прежде чем захлопнуть ее и повернуть в замке ключ.
Несколько минут Титус, потрясенный собственным бессилием, колотил в дверь, вопя: «Впусти меня, трус! Впусти! Впусти!» – и на этот шум сбежались со всех концов огромного оливково-зеленого здания слуги.
Пока они уволакивали бьющегося, орущего Титуса, Мордлюк крепко держал локоть Юноны, жаждавшей быть рядом с неведомо откуда взявшимся молодым человеком, одетым теперь наполовину в лохмотья, наполовину в ливрею, но не произнесшей ни слова, хоть она и пыталась избавиться от хватки прежнего своего любовника.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Заря занялась диковатая, растрепанная. Тот небогатый свет, какой она давала, просачивался в гигантские стеклянные здания, словно стыдясь себя. Почти все гости леди Конц-Клык лежали, точно окаменелости, по постелям или, опустившись каждый на свою глубину, метались и вертелись в океане сна.
Из тех же, кто не спал и оставался еще на ногах, по меньшей мере половину составляли слуги Дома. Именно они и образовали ватагу, что полетела, включая попутно свет, на шум и обнаружила бьющегося о дверь Титуса.

