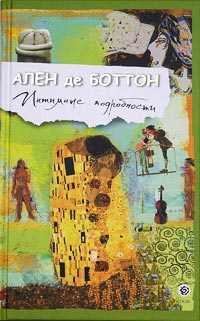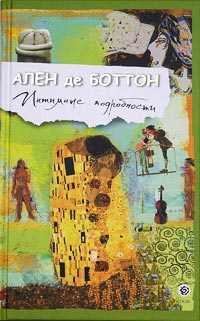
Моему отцу
Возможно, труднее описать хорошую жизнь, чем прожить её.
Литтон Стрейчи
Предисловие
Как бы человек ни относился к этой планете и ее жителям, каким бы он ни был беспристрастным, а его знакомства разнообразными, нам все-таки не приходится удивляться тому, что самым очаровательным малым — тем самым, чьи вкусы в любви и литературе, религии и развлечениях, рискованных остротах и личной гигиене безупречны, чьи неудачи неизменно вызывают скорбь и печаль, дурной запах изо рта не заставляет содрогаться, а взгляды на человечество не кажутся ни жестокими, ни наивными, — так вот, не требуется много ума, чтобы догадаться: этим идеалом для человека не может быть никто, кроме него самого.
Какой бы мрачной не казалась эта мысль ревнителям высокой морали, одно дело — мусолить ее в уме, выжимая сок из апельсина или переключая каналы ночного телевидения, и совсем другое — убедиться в ней на практике, выслушивая чьи-то яростные упреки, для пущей доходчивости усиленные грохотом бьющейся посуды.
Вот в чем вся прелесть самокритики: ты отлично знаешь, насколько глубоко можно вонзить нож, а чувствительных мест избегаешь с поистине хирургической точностью. Безопаснее некуда — все равно что щекотать себя самого. Когда Элтон Джон исполнял одну из своих дивных романтических баллад и, как это заведено у певцов и слезливых поэтов, сокрушался, что он не в силах выразить в музыке снедающий его любовный пыл («Your Song», 1969 г.), было бы крайне глупо предполагать, будто он хоть на миг усомнился в собственном таланте. За внешним смирением, побудившим его принизить свое музыкальное мастерство, скрывалась горделивая уверенность в том, что на самом-то деле он создал настоящий шедевр. Еще доктор Джонсон
[1]
отмечал, что подобные обиды, наносимые себе самому, — забавное занятие, позволяющее мужчине (ибо до середины двадцатого века афоризмы не уделяли внимания женщинам) показать, «какой у него запас прочности». Нужно обладать несокрушимой уверенностью в себе, чтобы мелодично петь о том, что ты якобы лишен музыкальных способностей. И только очень самоуверенный человек может позволить себе мимоходом упомянуть, что он эгоистичный мужлан. Уничижение по Джонсону напоминает похвальбу юного аса-велосипедиста — «Смотри, мама, без рук!», — который, на время забыв о необходимости крепко держаться за руль самоуважения, эффектно скатывается с холма, весело крича: «Я такой бездарный певец!» или «О, какой же я паршивец!»
Но стоит этим же словам слететь с губ другого, как нежный укор превращается в оскорбление, разящее нешуточно острыми когтями.
«Я долго не могла вывести тебя на чистую воду, — так начиналось письмо от женщины, которая провела со мной шесть месяцев, а потом решила, что лучше бы я умер у нее на глазах, — чтобы понять, как человек может быть до такой степени чужд самоанализа и в то же время настолько одержим собственной персоной. Ты говорил, что любишь меня, но тебе, как Нарциссу, не дано любить никого, кроме себя. Я знаю, что большинству мужчин вообще не очень-то свойственно умение общаться, но ты в этом смысле бьешь все рекорды. На все, что меня хоть капельку волнует, тебе наплевать. О чем бы ни шла речь — ты все так же думаешь только о себе и все так же самодоволен. Я напрасно потратила столько времени на эгоиста, глухого к моим потребностям; на субъекта, который не в состоянии сопереживать чему-либо, отстоящему дальше, чем мочка его уха…»
Не стану терзать читателя полным перечнем обвинений; чтобы охарактеризовать наши отношения культурным языком, достаточно сказать: мы с Дивиной были не самой гармоничной парой.
Тем не менее, ее упреки произвели на меня некоторое впечатление. Когда на вечеринках гости отходили на минутку, чтобы взять очередной коктейль, и больше не возвращались, оставляя меня наедине с орешками и самовлюбленностью — горшочком меда, который я лелеял все нежнее, — я снова и снова вспоминал ее слова. Особенно мне запомнился пассаж, посвященный мочке уха.
Через пару недель я забрел в один из лондонских книжных магазинов. Дело было субботним утром, а из динамиков раздавался моцартовский концерт для кларнета — робкая попытка придать атмосфере неуловимую классичность, что обычно приписывается музыке, созданной до девятнадцатого века. Проходя мимо стола, над которым красовалась золоченая табличка со словом «Биографии», я случайно задел какой-то толстенный фолиант. Он выскользнул из стопки книг, упал на темно-красный ковер, выкашляв облачко пыли, и привлек внимание ангельски прекрасной продавщицы, которая до этого разгадывала кроссворд за прилавком напротив.
Заметив, что при падении суперобложка надорвалась, я поспешно раскрыл книгу, изображая интерес к ее содержанию, а на самом деле надеясь, что продавщица потеряет свой интерес ко мне (увы, исключительно профессиональный). Фолиант был посвящен жизни Людвига Витгенштейна,
[2]
включал две хронологии, библиографию, сорок страниц примечаний и три блока фотографий, изображающих философа в плавках и на руках у кормилицы, но, судя по всему, не стремился познакомить читателя с тем единственным предметом, которым увлекался сам покойный. Да и какое это имело значение, если книга обещала основательно тряхнуть грязное белье автора «Трактата» и, в частности, осветить ранее неизвестные детали отношений Людвига с его братьями?
Продавщица вернулась к кроссворду, я изготовился, чтобы незаметно вернуть поврежденный том на место, когда — в контексте, далеком от мочек моих ушей и неспособности к ниженазванному, — глаза наткнулись на слово «сопереживать», напечатанное аккурат посередине пыльной суперобложки.
«Нечасто один человек испытывает такой интерес к жизни другого, — рассуждал критик, — и нечасто биограф так сопереживает герою своего романа. Автор исследовал все аспекты жизни Витгенштейна — психологические, сексуальные, социальные — и в итоге сумел воссоздать внутреннюю жизнь наиболее сложного для понимания мыслителя двадцатого века».
Есть любопытный феномен, особенно любезный людям, которым нравится находить в хаосе элементы порядка: иногда человек замечает определенное слово, а потом оно начинает таинственным образом попадаться ему в самых разных, порой неожиданных местах. То ли это слово всегда там было, и все дело в том, что теперь на него настроены зрение и слух, то ли, если смотреть на вещи мистически, слова действительно могут являться знамениями свыше. Но чем бы ни объяснялось это словесное deja vu, сопереживание, в отсутствии которого меня упрекали, теперь вновь всплыло на поверхность, поскольку биограф мог похвастаться его избытком; эта несправедливость вызвала у меня вспышку детской зависти к добронравию ищейки Витгенштейна — вот прямо так, посреди приличного книжного супермаркета, под изучающими взглядами камер видеонаблюдения и ангельски прекрасных продавцов.