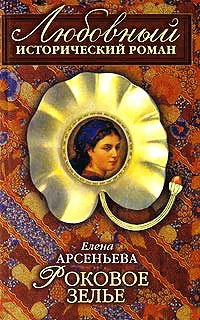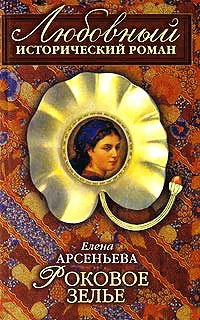
Ты думаешь, что ты двигаешь,
а это тебя двигают.
Гёте
Пролог
…Его гнали, как гонят дикого зверя, – по кровавому
следу. И не надо было оглядываться, чтобы почуять погоню: он слышал распаленное
дыхание преследователей, их азартные голоса:
– Туда, туда! Смотри, вон кровь! И там, и там!
– Вижу. Ату его!
И третий голос – самый для беглеца страшный, ибо именно этот
голос отдавал приказание о его убийстве.
Голо, каменисто было вокруг, спрятаться негде, ни укрытия,
ни кустика; наконец отсветы затаившейся меж туч луны помогли разглядеть впереди
достаточно глубокую расщелину. Все вокруг уже успело остыть после наступления
ночи, холод мгновенно сменял в этих краях раскаленный дневной жар, беглеца била
дрожь не только от страха или потери крови, но и от стужи, а эта расщелина
мнилась не только темной, но и отчего-то теплой, воистину спасительной.
Ему оставалось три-четыре шага, чтобы добраться до нее и
кануть в эту благословенную, непроницаемую тьму, отдышаться, перетянуть рану на
плече, которая была так близко, слишком близко к яремной вене – это чудо, что
лезвие разбойного ножа не зацепило ее! – да, ему оставалось каких-нибудь
три-четыре шага до жизни, когда луна вдруг вырвалась на небо, изгнав с него
мелкие, тускловатые звездочки, спрятав их, словно тридцать потертых
сребреников, полученных за предательство. Он услышал слитный торжествующий
вопль своих преследователей, но не сдался – рванулся вперед в последней,
отчаянной, слепой, нерассуждающей надежде на милосердие Божие. Однако
Господь-вседержитель был, похоже, отвлечен нынче делами иного свойства, он
даровал милостью своею кого-то другого, более достойного, а может, чаша грехов
этого преследуемого, затравленного человека уже переполнилась сверх всякой меры
– во всяком случае, отец наш небесный не простер руку свою, не прикрыл ею
беглеца… и тот всем лицом уткнулся в скалу.
Благословенная расщелина, к которой он так стремился,
оказалась лишь игрою света и тени, непроницаемой каменной стеной, и, чтобы
пройти ее, следовало бы знать нечто гораздо более значительное и
могущественное, чем таинственные, чародейные слова: «Сезам, откройся!» А он не
знал таких слов. Крики его убитых слуг зазвучали в голове, словно дальнее эхо:
души эти несчастных еще не успели далеко отлететь, но уже прониклись
потусторонним всеведением. Они знали, что скоро встретятся со своим хозяином и
другом, они приветствовали его и ободряли. И ему оставалось лишь прильнуть всем
лицом к немилостивому камню и, шепча последнюю молитву, принять удар в спину:
роковой удар, смертельный.
Он не был трусом и не повернулся не потому, что боялся. Он
просто не хотел видеть красивое, равнодушное лицо человека, который убьет его.
А впрочем, нет. Красивым оно быть не могло. Лицо предателя и
убийцы всегда безобразно.
* * *
…Его гнали, как гонят дикого зверя, – по кровавому
следу. И не надо было оглядываться, чтобы почуять погоню: он слышал распаленное
дыхание преследователей, их азартные голоса:
– Туда, туда! Смотри, вон кровь! И там, и там!
– Вижу. Ату его!
Эти голоса мешались в помутившемся сознании с криками его
убиваемых слуг и этих двух несчастных, мужа и жены, которые лишь по случайности
оказались нынче вечером на постоялом дворе – и принуждены были разделить судьбу
и смерть с обреченными. Алекс отчего-то не сомневался, что он и его спутники
были обречены, что нападение было обдумано заранее, это не просто внезапно
вспыхнувшее желание ограбить богатых иностранцев (тем более что и Алекс, и его
спутники выглядели весьма скоромно) – нет, его ждали в этом доме. Недаром
проводник тянул время в пути, ну а потом, когда уже затемно прибыли в Лужки,
очень старался доказать, что непременно нужно сделать крюк и заночевать именно
здесь, на другом конце деревни, а не в первой попавшейся избе.
Впрочем, дома остальных туземцев поражали убожеством, а это
было единственное приличное строение: просторное, в два яруса, чистое и
опрятное даже внешне. Хоть Алекс и нагляделся на русскую бедность и
неустроенность, мог бы, кажется, обвыкнуться с ними, но нет – они по-прежнему
внушали ему отвращение. Воистину, это была дикая страна, вернее, обиталище
диких людей, и Алекс отчаянно стыдился своего кровного родства с ними – теперь
почти забытого, известного, по счастью, лишь немногим…
Но сама земля здешняя поражала красотой и благолепием,
словно Господь был в особенном, просветленном расположении духа, когда созидал
ее, и красота эта невольно находила горделивый отклик в его сердце. Впрочем,
Алекс вспоминал письма своего будущего патрона и старался охладить себя: ведь
это буйное цветение не вечно, лето здесь заканчивается быстро, а на смену
приходит зима, настолько свирепая, что даже германские стужи покажутся в
сравнении с ней мягкими оттепелями, а уж ветры Атлантики, охлаждающие берега
Испании, вовсе почудятся нежными зефирами
[1].
Но сейчас до зимы еще было далеко, сейчас стояло лето, все вокруг
роскошествовало красками и ароматами, кружило голову, все жило и наслаждалось
жизнью! Сама мысль о смерти в такую пору кажется кощунственной, оскорбительной
нелепостью, словно застывший в последней ухмылке оскал черепа.
Однако этот жуткий череп смерти уже заглянул в глаза Алекса
черными провалами зениц и сейчас, в минуты последнего помрачнения, почудился
ему пугающе схожим с чертами того человека, которого он убил сам, своими
руками, недавно… убил в Испании таким же роковым ударом, как тот, от которого
погибает сам. И особенное, внушающее немыслимую тоску совпадение заключалось
именно в том, что первый удар оказался недостаточно меток: истекающей кровью
жертве удалось на некоторое время ускользнуть от преследователей и испытать
пытку последней, несбывшейся надеждой на спасение, пока его не настигли и не
добили.
Его собственные надежды тоже не сбудутся, знал Алекс, его
тоже настигнут и добьют – вот сейчас, через мгновение, – но поверить в это
было так трудно, так невозможно, что он невольно воззвал к Господу и Пречистой
Деве, и ему показалось, что кто-то чужой бормочет рядом слова молитвы на
местном наречии, хотя это он сам вдруг вспомнил полузабытый язык своего детства
и невольно выговорил по-русски:
– Господи, помилуй! Матушка Пресвятая Богородица…