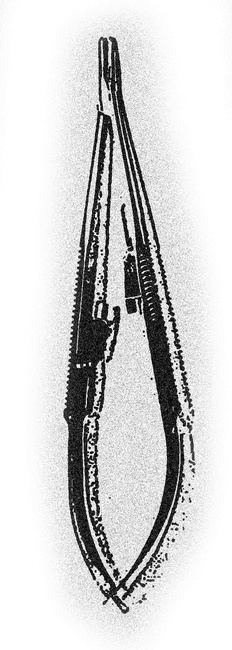– Я не люблю детей, – заявил смотритель, сердито глядя на меня поверх очков. – И в особенности я не люблю детей, сующих свой нос в темные места! – он наставил на фон Хельрунга крючковатый палец. – Понятия не имею, что не так с этим мальчишкой. Как на него ни взгляну, так он уже с новым монстрологом. Что случилось с Уортропом?
– Он вынужден был уехать по срочному делу.
– Или умер.
Фон Хельрунг быстро моргнул несколько раз, а затем сказал:
– Ну, я не уверен. Я так не думаю.
– Если призадумаетесь, поймете: срочнее дела не бывает, – провозгласил Адольфус куда-то в мою сторону. – И это я о смерти. Бывает, сижу это я здесь и работаю, но как вспомню об этом, так вскочу со стула и подумаю: «Поторопись, Адольфус. Поторопись! Делай же что-нибудь!»
– Не стоит вам беспокоиться о таких вещах, – сказал фон Хельрунг.
– Я что, сказал, что беспокоюсь? Вот еще! Сорок шесть лет, фон Хельрунг, я живу в окружении смерти. И не мертвые меня беспокоят, – затем, сверкая глазами, он обернулся ко мне и рявкнул. – Что ты умеешь?
– Я могу разбирать ваши бумаги…
– Никогда!
– Вести дела…
– Ни за что!
– Писать под диктовку…
– Нечего мне сказать!
– Сортировать почту…
– Решительно нет!
– Ну, – устало сказал я, – я хорошо управляюсь с метлой.
Весна. Цветение прорывается из-под дрогнувшей земли. Небо смеется. Деревья, сконфузившись, обряжаются в зеленую листву, а небеса густо усыпаны звездами. Верни себе время, поют звезды. Верни мечту.
И мальчик ступает по сухой земле, усыпанной обломками камней, напоенной весенним дождем, шагает там, где сходятся две мечты – греза о семенах, что прорастают золотыми деревьями, и сон о коробке, которую он не может открыть.
– Не стоит мне тебе этого говорить, – сказала Лили, – правда не стоит.
«Я буду кораблем о тысяче парусов».
– Прошлой ночью я слышала, как они про тебя говорят.
«Давай-ка, открывай! Он хотел, чтобы ты увидел».
– И папа не сказал «да», но он не сказал «нет».
«Хочу с тобой, папа. Хочу с тобой».
– Я против, – сказала она. – Я тебя уже три раза поцеловала, – и звезды поют: верни себе время, верни себе мечту, в краю расколотых скал, где сходятся две грезы. – И это же жуть даже подумать, что такое: целоваться с собственным братом!
«Не хочу я домой. Мое место с ним».
– Ну что ж, Уильям, что скажешь? – спросила миссис Бейтс.
– Что доктор, когда вернется, будет очень недоволен.
– Доктор Уортроп, если он вернется, права голоса иметь не будет. Никаких законных прав на тебя у него нет.
– Доктор Уортроп, когда он вернется, плевать хотел бы на законные права.
– Пф! – буркнула миссис Бейтс. – Какая дерзость. Я в этом и не сомневаюсь, Уильям. Но я полагаю, что он, пусть и с неохотой, уступит твоим желаниям. Чего ты сам хочешь?
Я видел свою дичь. Мне оставалось лишь протянуть руку и схватить ее. Мальчик с высоким стаканом молока, на пахнущей яблоками кухне, и никакой тьмы: ни тел в мусорных баках, ни крови, запекшейся на подошвах башмаков, ни выкриков его имени в глухую ночь, ни пружинного нечто, что сокращалось и сжималось, и громовым шепотом твердило: «АЗ ЕСМЬ». Лишь смеющееся небо и убранные золотом деревья, и россыпь певчих звезд, и сам мальчик, с молоком и всем земным шаром без остатка, который пахнет яблоками.
Часть пятнадцатая
«Что видишь ты, то видит и мой Бог»
Куратор Монстрария постучал меня по груди ухмыляющимся черепом, венчающим его трость, и объявил:
– Ничего не трогай. Сперва спрашивай. Всегда сперва спрашивай!
Я следовал за ним по путаным полутемным коридорам, от пола до потолка забитым невскрытыми, подлежащими каталогизации ящиками: гирлянды паутины и полувековой слой копоти и грязи по стенам, «щелк-щелк-щелк» трости по пыльному полу, запах бальзамирующего состава, кислый привкус смерти на языке, глубокие ямы теней, робкие нимбы желтого света газовых ламп, и кошмарное одиночество единственного крохотного человека в огромном пространстве.
– Может, на первый взгляд это и незаметно, но у всего здесь есть свое место, и на своих местах все и находится. Если член Общества попросит тебя помочь что-нибудь найти, не помогай. Найди меня, это найти несложно. Обычно я у себя за столом. Если я не у себя за столом, вели им зайти в другой раз. Так и скажи: «Адольфус не у себя за столом. Стало быть, он или где-то в Монстрарии, или отлучился на денек, или умер».
Мы помедлили у безымянной двери – Кадиш Хадока-шим, «святая святых». Адольфус рассеянно потряхивал кольцом с ключами. То было точно как в моем сне – вплоть до звона ключей.
– Никто не должен туда входить, – сказал он. – Вход воспрещен!
– Я в курсе.
– Не спорь со мной! А еще лучше, вообще умолкни! Не люблю болтливых детей.
Или молчаливых детей, подумал я.
– Это же гнездовище, так ведь? – вдруг спросил Адольфус Айнсворт. – Это «срочное дело». Ха! Уортроп отправился на охоту за магнификумом. Ну-ну, я не удивлен. Он у нас известный борец с ветряными мельницами. Но с тобой-то что, Санчо Панса? Ты почему не с ним?
– Он взял вместо меня другого.
– Другого кого?
– Ученика доктора фон Хельрунга. Томаса Аркрайта.
– Архи-срайта?
– Аркрайта! – заорал я.
– Никогда с таким не встречался. Его ученик, ты говоришь?
– Он должен был вас ему представить.
– С чего бы это? Вчера я со старым пердуном повидался впервые за полгода. Он никогда сюда не спускается. В любом случае, что мне за дело до ученика фон Хельрунга или кого бы то ни было? Вот что я тебе скажу, мастер Генри. Никогда не привязывайся к монстрологам, и я скажу тебе, почему. Хочешь знать, почему?
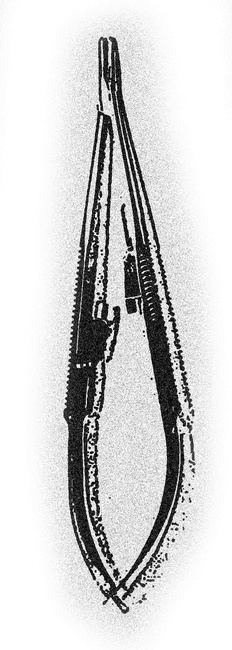
Я кивнул:
– Хочу.
– Потому что надолго их не хватает. Они мрут!
– Все смертны, профессор Айнсворт.
– Не так, как монстрологи, уж поверь мне. Вот погляди на меня. Я мог бы стать монстрологом. Когда был помоложе, то один, то другой упрашивал меня ему ассистировать. А я всегда отказывался, и скажу тебе, почему. Потому что они мрут. Мрут как мухи! Мрут как индюшки на День благодарения!
[49]
И мрут не обычной безвременной кончиной, ну, знаешь: выпал из лодки и утонул, или лошадь в голову лягнула. Это несчастный случай, и это естественно. А вот когда что-то, за чем ты бегал по пятам и наконец догнал, отрывает тебе руки-ноги по очереди, это противоестественно; это монстрологично!