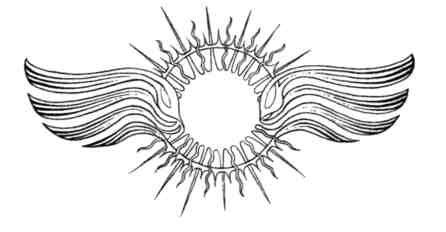протяжении всей жизни в моих научных работах, которые теперь известны каждому школяру.
Разумеется, души большинства людей превращаются либо в воробьев, либо в какую-нибудь домашнюю птицу. Ничего удивительного, если учесть, что мои просвещенные современники срывают с древа познания лишь конские яблоки убогого, бескрылого материализма! Тогда как в Древнем Египте изображали душу совершенного человека в виде солнечного диска с широко про- стертыми орлиными крылами. Вот уж воистину был царственный Феникс!..
Эти строки я пишу ночью в канун моего восьмидесятилетия, ибо знаю, что умру еще до того, как лучезарный Феникс проклюнется из земной скорлупы. Предо мной на висящей в воздухе жердочке сидит белый какаду, который всегда является мне во сне, когда пыль всех этих бесчисленных книг тяжким кошмарным наваждением гнетет меня. Я всегда подозревал, что он-то и есть моя душа. Только сейчас, впервые в жизни, чувствую я себя счастливым и уверенным, а это значит, что смерть близка, ибо, пока мы живем, душа наша остается для нас чем-то далеким, чужим и невидимым, как спящая в яйце птица. Всю свою жизнь высиживал я яйцо моей бессмертной души, и неизбывная тоска по небесной родине стала тем нежным материнским теплом, благодаря которому под толстой скорлупой созрел не ведающий смерти птенец...
Белая птица сидит неподвижно и, не сводя с меня своих пронзительных, всевидящих глаз, ведет неспешный сказ о моей жизни; и чем глубже погружается она в прошлое, кружа над счастливой страной моей юности, навеки канувшей в бездне времен, тем яснее и понятнее звучат для меня ее слова. Странно, но наша память, похоже, отдает предпочтение далекому прошлому, делая его подчас таким близким, что оно затмевает собой события вчерашнего дня! Вот и сейчас я вдруг вспомнил, как в студенческие времена, еще совсем зеленым юнцом, был влюблен в одну проститутку... наверное, потому, что оба мы, одинаково бедные, вынуждены были заниматься одним и тем же... только она торговала своим телом, а я - своим духом...
Сейчас, когда я оглядываюсь, вокруг меня никого и ничего нет - только книги, книги, книги... Эти бесчисленные тома - все, что осталось от моей жизни, погребенной на их страницах, они постоянно множились и, громоздясь до небес пыльными пирамидами, грозили окончательно похоронить меня под собой... Мертвое знание... Глядя на эти потускневшие корешки, бесконечными рядами окружающие меня со всех сторон, я невольно думаю о толстых прутьях клетки, в которую сам себя заточил. И все же я благословляю эту величественную гробницу человеческого суемудрия, ведь только после долгих лет, проведенных в ее бесплодном чреве, удалось мне в полной мере осознать тщету земного схоластического умствования, мертвенное дыхание которого, убивающее живую, непосредственную радость жизни, заставило мою душу воспрянуть ото сна и, пробив клювом бренную скорлупу телесного саркофага, расправить крылья.
Скоро, скоро полетит она домой - и я вместе с нею! - в ту чудесную, не от мира сего страну, которая так часто мне снится... Я уже вижу гигантскую, вздымающуюся из морской пучины гору, вечнозеленые кедры у ее подножья и, подобно муравьям воспоминаний, кишащих на улицах людей...»
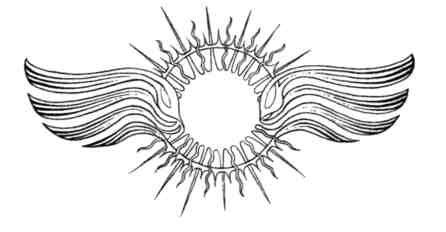
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
Мой друг Альфред Кубин всякий раз, когда мы с ним сидим за бокалом шильхера
[170] - что, к сожалению, происходит все реже и реже, - заводит разговор о дьяволе, который, по его мнению, должен непременно существовать, иначе как бы он, художник, мог рисовать это исчадие ада?! И мне волей-неволей приходится вступать с ним в спор, утверждая, что сатана есть не что иное, как odium theologicum
[171], и изображать его в виде обычного черного козлища - значит дудеть в одну дуду с теми, кто свято уверен в том, что хвост, который пресловутый господин Лео Таксиль продал в 1893 году Папе Льву, он действительно вместе со своей напарницей мисс Вогам умудрился оттяпать у самого настоящего дьявола, а не у первого встречного деревенского козла... «Уж не думаете же вы в самом деле, что это был действительно хвост князя тьмы!» - этим патетическим восклицанием завершал я обычно свою речь. «Разумеется! - ничтоже сумняся, заявлял невозмутимый Кубин, в качестве доказательства тыча мне под нос свой блокнот для эскизов. - Взгляните сами, разве я когда-нибудь изображал черта с хвостом!» И спор вспыхивал вновь, страсти иногда раскалялись до того, что мы, как два уличных сорванца, готовы были вцепиться друг другу в волосы, и если этого не делали, то потому лишь, что у Кубина их оставалось совсем немного, а у меня они и вовсе отсутствовали.
Разумеется, в глубине души я полностью разделял убеждение приятеля в существовании дьявола, однако признать это открыто мне не позволял особый, сложившийся в художественной среде этикет, требовавший от коллег по искусству придерживаться противоположных мнений относительно тех или иных фундаментальных принципов, к тому же меня преследовали вполне серьезные опасения, что евангельский стих: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
[172], может тогда ис-
полнится в инфернальном, извращенном смысле... Насколько оправданны оказались мои страхи, свидетельствует следующий странный случай, приключившийся со мной и с Кубином несколько лет тому назад...
Я знаю, мой друг ни за что на свете не согласится с тем, что все это произошло на самом деле, - разумеется, по его версии, всему виной шильхер! Ну что же, будем снисходительны к художнику, ведь ему иногда так хочется почувствовать себя в моей шкуре, заняв ту позицию, которую обычно вынужден представлять я. Ну а все эти нелепые ссылки на шильхер я мог бы легко опровергнуть одной-единственной фразой: «Если происшедшее не имеет никакого отношения к действительности, то не будете ли вы, дорогой Кубин, так любезны показать ваш знаменитый блокнот и объяснить, каким образом вам удалось сделать эти поражающие своей достоверностью зарисовки? Нуте-с, друг мой, я вас внимательно слушаю...»
Однако, прежде чем перейти к рассказу об этом спорном приключении, я должен сделать небольшое отступление: много-много лет назад у меня был один знакомый, некий доктор Сакро-боско Хазельмайер, - почему его звали «Сакробоско», не знаю, быть может, потому, что так назывался один из лунных цирков. В свое время я довольно много писал об этом весьма своеобразном субъекте - говоря честно, попросту хотел от него таким образом отделаться. Наверное, это прозвучало несколько странно, но, полагаю, все сразу встанет на свои места, когда я скажу, что только так, пером и чернилами, и было возможно от него избавиться, ибо время от времени в мою душу закрадывались весьма серьезные сомнения в реальности сего господина. Если же мои опасения были небезосновательны и «доктор Хазельмайер» в самом деле являлся плодом моего воображения, то единственный способ отделаться от этого навязчивого образа заключался в том, чтобы написать какое-нибудь литературное произведение, запечатлев его в одном из персонажей. По крайней мере, так мне посоветовал один врач.