22.
Здесь, в Анн-Арборе, по-своему кончается биография Иосифа Бродского. Приехав в Америку, он зажил нормальной для западного писателя жизнью. В 1977 году он переехал в Нью-Йорк, где оставался до конца жизни. Он зарабатывал преподаванием и лекциями, ему никогда больше не приходилось защищать свой выбор профессии перед судом, и — к своему облегчению — он перестал быть пешкой в политической игре. «По большому счету, поэт не должен играть такую роль в обществе, какую он играет в России». Он публиковал свои стихи без цензурного вмешательства и был удостоен множества почетных наград, в том числе и Нобелевской премии литературе — «за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и лирической интенсивностью».
II. Язык есть бог, или Мальчик на крыльце
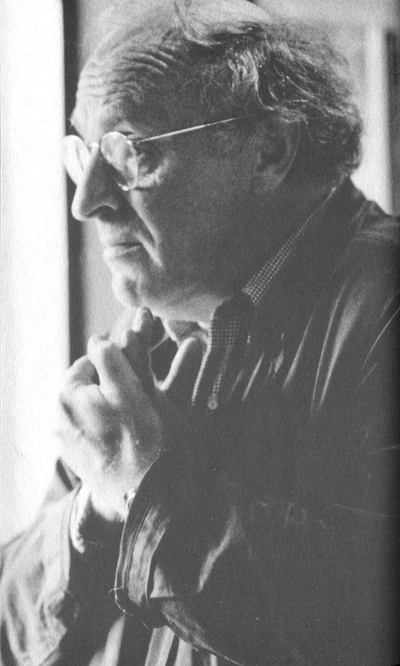
Скрипи, перо!
Время больше, чем пространство
«Все мои стихи более или менее об одной и той же вещи — о Времени, — говорил Бродский. — О том, что Время делает с человеком». Время — центральная тема в творчестве Бродского, отношением к нему определяется его мировоззрение. Время царит над всем — все, что не время, подвластно времени. Время — враг человека и всего, что человеком создано и ему дорого: «Развалины есть праздник кислорода и времени».
Время вцепляется в человека, который стареет, умирает и превращается в «пыль» — «плоть времени», как ее называет Бродский. Ключевые слова в его поэзии — «осколок», «часть», «фрагмент» и т. п. Один из сборников носит название «Часть речи». Человек — в особенности поэт — является частью языка, который старше его и который продолжит существовать и после того, как время справится с его слугой.
Время и пространство — самая важная дихотомия в философской системе Бродского. «Дело в том, что меня больше всего интересует и всегда интересовало на свете… — это время и тот эффект, который оно оказывает на человека, как оно его меняет, как обтачивает… С другой стороны, это всего лишь метафора того, что вообще время делает с пространством и миром». Разница между временем и пространством выражается у Бродского противопоставлением «идеи» и «вещи».
«Время больше пространства. Пространство — вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь — форма времени…»
(«Колыбельная Трескового мыса»)
Мысль развивается в эссе «Путешествие в Стамбул» (1985): «… пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно — вещь, тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее последнее». Пространство есть, проще говоря, «тело», тогда как время связано с мыслью, памятью, чувствами — с «душой».
Отношение Бродского к прошлому отличается ностальгичностью. Существование приобретает «статус реальности» только постфактум, и это объясняет ретроспективный процесс сочинительства и тягу к элегическому жанру. В русском языке глаголы стоят «в длинной очереди к „л“», и поэзия самого Бродского полна временных маркеров из частной и общей истории («фокстрот», «бемоль», «клюква», «абажур», «колючая ель» и т. п.), как, например, в «Эклоге 4-й (зимней)» (1980):
Зима! Я люблю твою горечь клюквы
к чаю, блюдца с дольками мандарина,
твой миндаль с арахисом, граммов двести.
Ты раскрываешь цыплячьи клювы
именами «Ольга» или «Марина»,
произносимыми с нежностью только в детстве
и в тепле. Я пою синеву сугроба
в сумерках, шорох фольги, чистоту бемоля —
точно «чижика» где подбирает рука Господня <…>
Будущее связано с другими, отрицательными качествами — в индивидуальном плане прежде всего со смертью человека. Если будущее вообще что-то значит, говорит Бродский, то это «в первую очередь наше в нем отсутствие. Первое, что мы обнаруживаем, в него заглядывая, — это наше небытие». Поэтому оно описывается в таких терминах, как «холод», «оледененье», «пустота»:
Сильный мороз суть откровенье телу
о его грядущей температуре…
(«Эклога 4-я»)
Пахнет, я бы добавил, неолитом и палеолитом.
В просторечии — будущим. Ибо оледененье
есть категория будущего, которое есть пора,
когда больше уже никого не любишь,
даже себя. Когда надеваешь вещи
на себя без расчета все это внезапно скинуть
в чьей-нибудь комнате, и когда не можешь
выйти из дому в одной голубой рубашке,
не говоря — нагим. Я многому научился
у тебя, но не этому. В определенном смысле,
в будущем нет никого; в определенном смысле,
в будущем нам никто не дорог.
………………………………
…Будущее всегда
настает, когда кто-нибудь умирает.
Особенно человек…
(«Вертумн», 1990)
То, что в жизни воспринимается как неприятное и отрицательное, есть на самом деле крик будущего, пытающегося прорваться в настоящее. Единственное, что может мешать будущему слиться с прошлым, это короткий отрезок времени, являющийся настоящим — символизированный в «Эклоге 4-й» человеком и его теплым телом (заметьте эффектную разбивку строф между двумя последними строками):
Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,
время — на время. Единственная преграда —
теплое тело. Упрямое, как ослица,
стоит оно между ними, поднявши ворот,
как пограничник держась приклада,
грядущему не позволяя слиться
С годами человек становится все более незримым — как намек на это слияние, то есть на его отсутствие во времени. Как в «Литовском ноктюрне» 1973 года (курсив — мой):
…Ибо незримость
входит в моду с годами — как тела уступка душе,
как намек на грядущее, как маскхалат
Рая, как затянувшийся минус.
Ибо все в барыше
от отсутствия, от
бестелесности: горы и долы,
медный маятник, сильно привыкший к часам,
Бог, смотрящий на все это дело с высот,
зеркала, коридоры,
соглядатай, ты сам.
Когда человек выпадает из хронотопа, он сам становится временем, чистым Временем. (В отличие от «реального времени», в котором мы сами пока присутствуем, «чистое», бессубъектное, время пишется у Бродского с большой буквы.) Настоящее исчезает, и прошлое и будущее сливаются. Одним из образов этого у Бродского служит космос:

