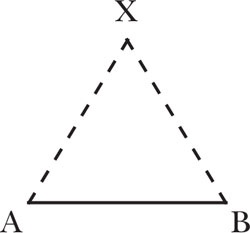Борхес, увлекавшийся универсальными и тайными языками, прекрасно знал, что проект Уилкинса не воплотим, потому как предполагает перечисление всех предметов и понятий в мире, а также единый критерий для упорядочивания всех наших идей – нерасщепляемых частиц. Именно в эту ловушку попадают все создатели утопии универсального языка. Но посмотрим, к какому заключению приходит Борхес.
Осознав раз и навсегда, что невозможно прийти к единой классификации мировых предметов, Борхес увлекся противоположной, по сути, мыслью: перевернуть и умножить классификации. Именно в эссе, посвященном Уилкинсу, упоминается невероятная китайская энциклопедия (“Небесная империя благодетельных знаний”), в которой мы находим замечательный образчик нелепой и непоследовательной классификации, вдохновившей Мишеля Фуко на написание книги “Слова и вещи”, о чем сообщается в ее предисловии.
Заключение, к которому приходит Борхес из-за несостоятельности классификаций: мы не знаем, что такое мир. Более того, он утверждает, что “мира в смысле чего-то ограниченного, единого, мира в том смысле, какой имеет это претенциозное слово, не существует”. Но сразу же оговаривается: “Невозможность постигнуть божественную схему мира не может, однако, отбить у нас охоту создавать наши, человеческие схемы”
[55].
Борхес знал, что построения в духе Уилкинса и многих научных теорий, как правило, дают результаты лишь частичные и временные. Сам он пошел другим путем: если семантические атомы знания многочисленны, игра поэта будет заключаться в том, чтобы заставить их вращаться, бесконечно смешивать их и создавать из них не только лингвистические этимоны, но и сами идеи. Миллионы новых китайских энциклопедий, “Небесных империй”, общая сумма которых никогда не будет подсчитана, – это и есть Вавилонская библиотека. Библиотека, которую Борхес отыскал на складе тысячелетней культуры и в дневниках каждого архангела. Но он не ограничился простым исследованием этой библиотеки: он попытался соединить разные шестигранные галереи библиотеки между собой, вставить страницы одной книги в другую (или, по крайней мере, найти возможные книги, в которых уже присутствовала такая путаница).
Речь идет о крайней форме современного экспериментализма – о постмодернизме, интертекстуальной игре. Но Борхес вышел за пределы интертекстуальности, предваряя эпоху гипертекста, когда в одной книге не только говорится о другой, но через одну книгу можно проникнуть в содержание другой. Описывая на каждой странице не столько форму своей библиотеки, сколько подробную инструкцию, как по ней передвигаться, аргентинский писатель, по сути, предвидел структуру современной всемирной сети – интернета.
Перед Борхесом стоял выбор: посвятить свою жизнь поиску тайного языка Бога (он рассказывает об этом поиске) или же восхвалять тысячелетний мир знания как танец атомов, переплетений цитат, склеивания смыслов, чтобы создать не только то, что уже было и есть, но и что будет и может быть, ибо именно таковы задачи и возможности библиотекарей Вавилонской библиотеки.
Только в свете этого экспериментализма Борхеса (с идеями, а не словами) становится понятной поэтика точки Алеф, из которой можно увидеть в одно мгновение все бесчисленные и перемешанные предметы, населяющие мир. Сначала нужно увидеть все вместе, затем поменять комбинацию и увидеть нечто иное, и так до бесконечности можно создавать свою китайскую энциклопедию.
В таком случае проблема безграничности и всеохватности библиотеки, проблема конечности, бесконечности и периодичности числа ее книг, становится вторичной. Настоящий герой Вавилонской библиотеки – не сама библиотека, а ее читатель, новый Дон Кихот, подвижный, любящий приключения, неутомимый изобретатель, алхимик-комбинатор, способный приручить ветряные мельницы и заставить их вращаться вечно.
Для этого читателя Борхес придумал молитву в еще одном стихотворении, посвященном Джойсу:
Пока закат придет заре на смену,
пройдет история. В ночи слепой
пути завета вижу за собой,
прах Карфагена, славу и геенну.
Отвагой, Боже, не оставь меня,
дай мне подняться до вершины дня
[56].
Борхес и мой страх влияния
[57]Явсегда говорил: на конгрессы по кардиологии не стоит приглашать людей, страдающих сердечными заболеваниями. Мне следовало бы не только поблагодарить вас за все приятные слова, сказанные в мой адрес на конференции, но и помолчать в соответствии с моей же мыслью о том, что написанный текст – это рукопись, найденная в бутылке. Это не значит, что нужно торопиться с прочтением рукописи, она должна отлежаться, пока рак на горе не свистнет, как говорят в народе. Вот почему в эти дни я записывал ответы на каждое выступление или дополнение, а потом решил не обсуждать каждый доклад по отдельности.
Давайте лучше с учетом высказанных вами соображений поговорим о влиянии. Это очень важный концепт в литературоведении, истории литературы и нарратологии, но и очень опасный. В ходе этой конференции я не раз вспоминал о его опасности и теперь хотел бы своими мыслями поделиться.
Когда речь идет о влиянии автора А на автора В и наоборот, возможны две ситуации:
(1) А и В были современниками. Например, мы можем озаботиться вопросом: имело ли место какое-либо взаимовлияние между Прустом и Джойсом? Нет. Писатели встретились всего раз в жизни, и каждый сказал про другого что-то вроде: “Какой неприятный тип, я ничего или почти ничего не читал из его произведений”.
(2) А предшествует В хронологически. Как раз этот вариант обсуждался на конференции. Но в таком случае мы можем говорить только о влиянии А на В.
Несмотря на все это, нельзя говорить о взаимовлияниях в литературе, философии, даже в научных исследованиях, не поставив на вершину треугольника некий X. Можем ли мы назвать этот Х культурой, цепочкой предыдущих влияний? В соответствии с темой наших последних дискуссий назовем его мировой энциклопедией. Учитывать этот Х следует всегда, и особенно в случае Борхеса, который, как и Джойс, пусть и иным способом, использовал в качестве инструмента игры мировую культуру.
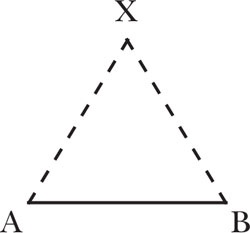
Отношения авторов А и В бывают устроены по-разному: (1) В находит нечто интересное в произведениях А, не зная, что это часть Х; (2) В находит нечто интересное в произведениях А и через творчество последнего приходит к Х; (3) В обращается к Х и только потом замечает, что то же самое было и у А.