Итак, эти сосуды стояли на столе, и из них различные напитки разливались в кубки, кубышки, братины, чаши, чарки, ковши, кружки и так далее. Как выглядели эти сосуды индивидуального пользования, современный человек может судить по музейным экспонатам. Но мы все же немного об этой посуде расскажем. Из кубков пили на пирах царских и боярских, и они считались предметами роскоши. Кубком из серебра или золота царь часто награждал придворных. Они становились даже частью сокровищниц.
Братина – в определенном смысле сосуд ритуальный. На пирах наполненная вином братина шла по кругу, и каждый из сотрапезников выпивал из нее по глотку. Таким образом, исходя из названия, это служило как бы братанием всех пирующих. На царских и княжеских трапезах они были золотыми или серебряными, а простой народ пользовался медными или деревянными. На царских застольях из серебряных ковшей пили светлый мед, а из золотых – темный. Ковши изготовлялись также из других материалов, по форме они напоминали ладью или птицу. В музее Кремля есть ковш, выкованный из цельного килограммового куска золота, украшенный жемчугом и самоцветами. Его подарила первому царю из рода Романовых Михаилу Федоровичу его мать, инокиня Марфа.
Объем ковша был достаточно велик, и те, кто пил ковшами, слыли, конечно, пьяницами. Крепкие напитки пили из маленьких ковшиков, называвшихся корчиками. В том же музейном собрании имеется серебряный экземпляр, украшенный изображениями рыб, рака и двухвостой сирены.
В обиходе уже появились стаканы, стопки и рюмки. Они также изготавливались из различных материалов, в том числе из стекла. Стеклянная посуда импортировалась, поэтому была редкостью, но после того, как в Измайлове построили стеклодувный завод, «скляница» на Руси стала рифмоваться со словом «пьяница». Кроме того, бытовали такие, ныне нам неизвестные, сосуды, как достаканец, корец и ставец. В одном из источников, точнее, допросном листе, можно прочесть: «Она поднесла им по достаканцу троецкому вина, а в достаканце будет чарки две или три». Стало быть, достаканцы были разными по объему. В другом источнике, описи имущества одного из священнослужителей того времени, можно прочесть: «…Стопка, или достаканчик малой». Вообще-то стопка отличалась от стакана тем, что имела крышку и ручку. И та стопка, стало быть, из какой мы теперь пьем водку, совершенно не походит на тогдашнюю.
Разумеется, нам интересно узнать о том, сколько такие сосуды в себя вмещали. В своей книге «История водки» В. В. Похлёбкин довольно подробно об этом рассказывает. Приведем оттуда некоторые цифры. Самой древней на Руси мерой жидкости являлось ведро. Первые упоминания о нем относятся к концу Х века. Его объем составлял в разных регионах от 12 до 14 л. В XVI веке после монополизации водочной торговли появляется термин «указное ведро». Его объем равнялся 12 кружкам, а мера кружки – от 1,1 до 1,2 л. Ведро в этом веке стало уже делиться на более мелкие, нежели кружка, меры. Оно вмещало 10 стоп или 100 чарок. А в чарке – около 150 г. Ковш вмещал три чарки, стало быть, почти пол-литра.
Позднее, в XVIII веке, место стопы занимает западноевропейская мера жидкости – штоф. Его объем – 1,23 л. И он так же, как стопа, делился на 10 чарок, в которые помещалось по 123 г. Штоф, а также полуштоф (0,61 л) вплоть до ХХ века были в водочной торговле основными объемами (как теперь литр и пол-литра), в то время как вина продавались в бутылках объемом 0,768 л, что очень близко к нынешней мере – 0,75 л. Популярным был такой объем, как четверть (3,25 л), то есть четвертая часть ведра. Мой отец, родившийся в 1903 году, еще застал эту меру, ее именовали также «гусь», причем, в отличие от птицы, название бутылки было женского рода. К примеру, покупатель мог спросить у лавочника две «гуси».
Надо отметить, что водка в допетровскую эпоху и позже изготавливалась слабой, ее разбавляли водой до 17–18 градусов. И лишь с введением государственной монополии на алкоголь в 1894 году водка стала менделеевской крепости – 40 градусов.
Глава 2. О привычках, любимой еде, любовных утехах Петра Великого, а также ассамблеях и кулинарных новшествах
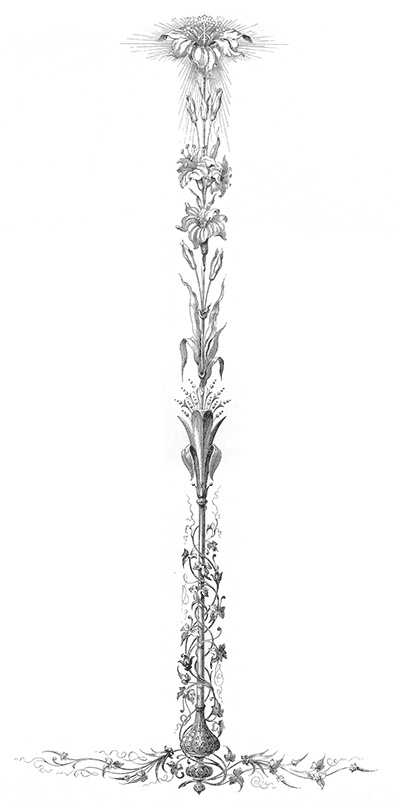
Кулинарная революция в России началась в XVIII веке, вместе с воцарением Петра I. Как известно, он прорубил окно в Европу, и оттуда вместе с табаком, брадобритием, камзолами, треуголками, крепким алкоголем и прочими новшествами потянулись также и запахи европейской кухни. Стал радикально меняться не только дворянский стол. Строителям и обитателям новой столицы также приходилось питаться в новых условиях по-новому.
В новых домах строящегося парадиза уже не возводили русских печей. Они заменялись голландскими плитами с духовками и открытыми конфорками, на них удобно было жарить, особенно в большом количестве жира. В дворцовых кухнях появляются вытяжные колпаки, не позволяющие запахам кухни проникать в жилые помещения. Термическая обработка пищи с того времени в России становится иной. Томление и длительная пастеризация продуктов в русской печи по крайней мере в домах знати новоотстроенного Петербурга, уходит в прошлое.
Однако Петербург – не вся Россия. В деревнях и старых городках необъятной России русские печи сохранялись вплоть до революции 1917 года. Да и теперь добрую русскую печь можно встретить в деревнях, а также в новых дачах – старорусские традиции приготовления пищи без кипячения постепенно возвращаются. Хотя духовки, казалось бы, и выполняют ту же функцию, что и русская печь, однако приготовленная в них пища по вкусовым качествам отличается от той, что томилась на поду русской печи.
Но вернемся в начало XVIII века. Весьма примечательно, что сам царь-реформатор предпочитал традиционную русскую кухню. Вот что можно прочесть в мемуарах известного современника Петра I механика А. Нартова: «Петр Великий публичные столы отправлял у князя Меншикова, куда были званы и иностранные министры. У себя же за столом не приказано было служить придворным лакеям. Кушанья его были: кислые щи, студни, каша, жаркое с огурцами и лимонами солеными, ветчина, да отменно жаловал лимбургский сыр. Все подавал повар, а не специальный человек, крайчий, как это было принято при его отце, Алексее Михайловиче. Водку пил государь анисовую, обыкновенное питье – квас. Во время обеда пил вино „Эрмитаж“, а иногда венгерское, рыбу никогда не кушал».
Любой человек тяготеет к той еде, какую привык употреблять в детстве и юности, и русские эмигранты, как известно, очень страдают за границей без соленых огурцов, селедки, кислых щей, борща, черного хлеба и иных повседневных в России продуктов. Так и Петр Великий, несмотря на вводимые им на Руси зарубежные новшества, в еде оставался приверженцем простой русской кухни. Из описания Нартова видно, что лишь лимбургский сыр да вино на столе царя были импортными.
А вот обеды у Меншикова проходили пышно. Предметы сервировки были выписаны из Европы. Помимо дорогих сервизов на столах стояли серебряные шандалы, хрустальные и стеклянные кубки, рюмки, штофики, голландские и китайские фарфоровые тарелки, сухарницы, бульонницы, соусники. Датский посол Ю. Юль вспоминал: «Всё у него пышнее, чем у других сановников и бояр, а кушанье приготовлено лучше. Гости сидели за прекрасным серебряным столом. Тем не менее старинные русские обычаи проглядывали во многом». Далее он пишет, что гости напились как свиньи и запакостили бы великолепные покои, если бы не предусмотрительность князя. Тот хорошо знал, как ведут себя в гостях соотечественники, поэтому «велел устлать полы во всех горницах и залах толстым слоем сена, дабы по уходе пьяных гостей можно было с большим удобством убрать их нечистоты, блевотину и мочу».

