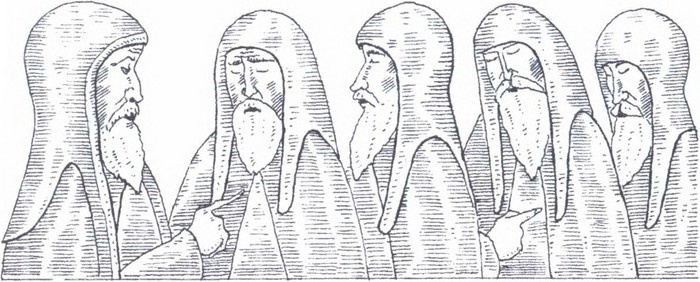Тем временем Роман успел потерпеть фиаско в Польше, где искал помощи, явился с повинной к Рюрику и целовал ему крест, а затем вновь примкнул к Ольговичам. Это втянуло в военные действия территорию Волыни, где были владения Романа, на которые теперь напал союзник Рюрика, галицкий Владимир. Тем же временем и Всеволод решил заключить с Ольговичами сепаратный мир на условии временного их отречения от Киевщины и Смоленщины. Но для Рюрика это было возвращением к исходному положению: ведь Ольговичи не искали под ним Киева, пока он не обидел Романа, а обидел его он из-за Всеволода же. Рюрик и ответил на сепаратный демарш последнего отнятием у него пяти городов и восстановлением того статус-кво, которое столь обильно полито было вином на киевских обедах в 1194 году, полтора года тому назад.
[204]
За этот срок было нарушено и совершено несколько крестоцелований, и шквал феодальной войны пронесся над тремя цветущими районами Руси: Смоленщиной, Черниговщиной и Волынью. Заводчиком всего этого «зла» был не бес, а человек, и притом сам «старейшина» «Володимерова племени». Межу тем это был князь, заслуживший в летописании оценку не худшую, чем Мономах, а в делах внутренних даже и высшую. Требуя себе «части» в «Русской земле» (Киевщине), Всеволод сам вызвал на юге нарушение крестоцелования. «Усобица» в это время до того въелась в быт, что «затихла борьба князей с погаными, ибо сказал брат брату: „Это мое, и то мое же“. И стали князья про малое „это великое“ молвить и сами себе беды ковать [друг с другом воевать], а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую».
Глава пятая
«Отцы духовные»
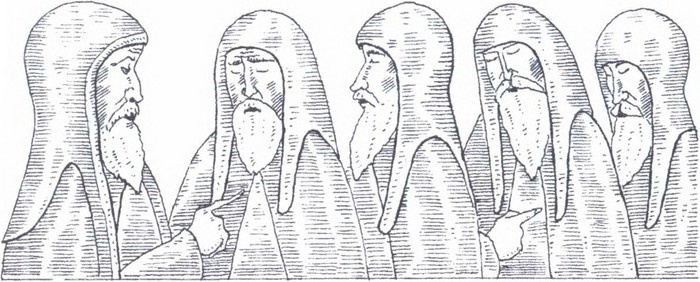
Если задаваться целью выбрать из оценок, данных современными летописными записями поведению людей, самую резкую, то первенство будет за фигурой не князя и даже не половецкого хана (с которого что же и спрашивать!), а епископа. Каким-то исчадием ада выведен у летописца епископ Ростовский Федор.
[205] Подлинными словами: «Много бо пострадаша человеци от него, в держании его [под его властью], и сел изнебывши [лишившись] и оружья и конь, друзии же роботы добыта [стали рабами], заточенья же и грабленья; не токмо простьцем [мирянам], но и мнихом, игуменом и ереем безмилостив сый мучитель, другым человеком головы порезывая [остригая] и бороды, иным же очи выжигая и язык урезая, а иныя распиная по стене и муча немилостивне, хотя исхитити [вымогая] от всех именье: именья бо бе не сыт акы ад. Посла же его Андрей [Боголюбский] митрополиту в Кыев, митрополит же Костянтин повеле ему язык урезати, яко злодею и еретику, и руку правую утяти [отрубить], и очи ему выняти, зане хулу измолви на святую Богородицю…» Так Федор и «погуби душю свою и тело, и погыбе память его с шюмом: такоже чтут беси чтущая их». Иными словами — «собаке собачья и смерть».
Между тем этот «владыка Феодор» сам до этого боролся с ведомою (для летописца) ересью суздальского епископа Леона, «не по правде» «перехватившего» епископью у живого своего предшественника Нестора и учившего «не ести мяс» по средам и пятницам, даже если на эти обычно постные дни падали «господские» праздники вроде Рождества и Крещения: «в тяже великой», происходившей в широком собрании во главе с Андреем Боголюбским, «упре его», то есть выиграл спор с Леоном, именно «владыка Феодор».
[206] В приведенном летописном сообщении об обстоятельствах гибели Федора несомненно отразилась и эта борьба из-за постов. Федор выведен здесь не только «злодеем», но и «еритиком», а описанную, тоже довольно злодейскую расправу учинил над ним тот самый митрополит — грек Константин, который за год до того сотворил «неправду», «запретив» печерского игумена Поликарпа за то, что тот ел в те же праздничные среды и пятницы молоко и масло. В случае же с Поликарпом «помогал» митрополиту и другой грек, черниговский епископ Антоний. Этого Антония, который «многажды браняшет ести мяс в господскые праздники» и своему черниговскому князю Святославу, этот же князь и «изверже из епископьи» именно за это.
[207]
Как мог запутать отношения церковный спор, видно из того, что князь Святослав Всеволодович обязан был престолом именно Антонию.
[208] Черниговский стол освободился в 1164 году за смертью очередного князя в отсутствие его сына Олега. Вдова, мать Олега, с боярами и Антонием решила скрыть смерть князя до приезда Олега, чтобы не дать времени опередить его Святославу Всеволодовичу, бывшему в это время в Новгороде, — и на том все целовали крест. При этом Антоний звал всех к кресту, как сам объяснил, чтобы никто не заподозрил его в тайных сношениях со Всеволодовичем, а прочие крестоцеловальники чтобы не уподобились Иуде-предателю. На деле же Антоний-то именно и «исписа грамоту» Всеволодовичу, призывая его захватить голыми руками Чернигов, пока не приехал Олег: «Дружина ти по городам далече, а княгиня седит в изуменьи [растерянная] с детми, а товара [чем поживиться] множество у нея, а поеди вборзе, Олег ти еще не въехал, а по своей воли возмеши с ним ряд» (то есть навяжешь ему выгодный для тебя договор). План Антония удался не вполне, но главное было достигнуто: Святослав успел занять некоторые стратегические пункты, хотя и опоздал собственно в Чернигов. Олег же поспел в Чернигов, но не успел сосредоточить там надобных сил, и переговоры между соперниками кончились компромиссом: Черниговом для Святослава и Новгородом для Олега.
А в Суздале в то же время князь Андрей предал в руки митрополита своего Федора, владыку, который не только отстоял, к удовольствию Андрея, господские праздники, но, как думают, прямо работал на своего князя, взяв поставление в Ростов не в Киеве, а в Константинополе и устроив, таким образом, на севере «автокефальную» кафедру, хоть это и не была еще митрополия, о которой помышлял Андрей.
[209] В изложении летописца крушение, постигшее Федорца, было «чудом новым» от Бога и Богородицы: они-то и «изгнали» этого «злаго, и пронырливаго, и гордаго лестца, лжаго владыку» за то, что тот не захотел «благословения» митрополичьего и не послушался князя Андрея, повелевшего ему теперь идти «ставиться к митрополиту к Кыеву». Будто бы Андрей делал это, «добро о нем мыслящю и добра ему хотящю», а тот прибег к своего рода локауту: повесил на всех церквах во Владимире замок — и «не бысть ни звоненья, ни пенья по всему граду и в сборней церкви» (что и было «хулой на богородицу», которой посвящен был собор).
[210] На этом Федор и сломал себе шею. Он выскочил из упряжки, в которой до того шел дружно с князем, не сумев вовремя остановиться в тот момент, когда князь решил прекратить добиваться церковной самостоятельности за безнадежностью этого.