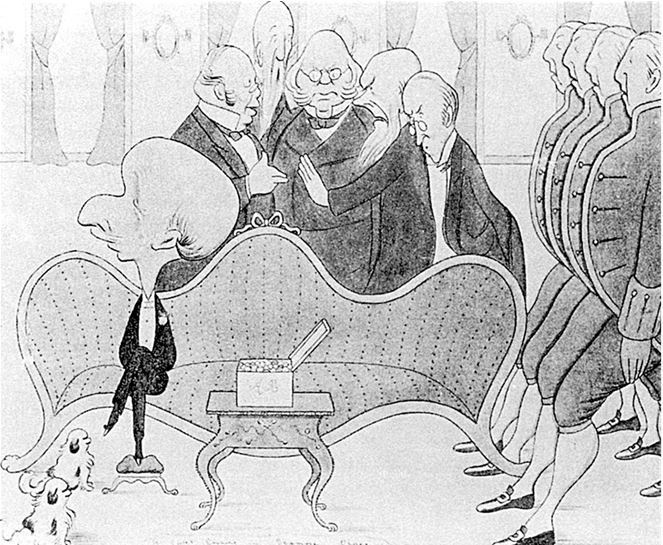Леопольд (Лео), пожалуй, еще больше разочаровал родителей, пусть даже потому, что Лайонел и Шарлотта возлагали на его успехи в учебе последние надежды. Несмотря на то что во время его учебы в Кембридже родители неустанно забрасывали его упреками и наставлениями — а может быть, как раз из-за них, — Лео отложил сдачу предварительного экзамена; ему понизили оценку за ограниченные познания в христианской теологии, и на выпускных экзаменах он едва набрал треть нужных баллов. Его мать боялась, что его «будут считать самым невежественным, самым бездумным и самым пустым из людей», и испытала большое унижение, когда ее друг Мэтью Арнольд сказал, «что он не может поверить, что ты… когда-нибудь станешь ученым человеком, так как ты говорил только о том, как поедешь в Ньюмаркет, о чем он очень жалел, так как ему показалось, что ты создан для чего-то лучшего. Уверяю тебя, я не преувеличиваю — после мистер Арнольд еще трижды вспоминал о скачках». Лайонел, который, как и Шарлотта, надеялся, что Лео станет «первым учеником с лучшими оценками», позже язвительно заметил: «Твои экзаменаторы были правы, сказав, что ты неплохо угадываешь». Трудно не сочувствовать Лео и его братьям. «Дорогой папа не ожидает так называемых новостей, написанных твоей рукой, — так начинается типичное письмо из дома, датированное 1866 г., — но он желает знать, как ты проводишь время, в котором часу расстаешься с любимой подушкой, когда завтракаешь, с описанием стола и ингредиентов утренней трапезы, сколько часов ты посвящаешь серьезным усердным занятиям, разделенным на приготовления и уроки, каких авторов ты читаешь на греческом и латыни, в прозе и поэзии, сколько досуга ты посвящаешь возвышенному чтению, например современной поэзии и истории, много или мало времени более легкой литературе, такой как романы… на французском и английском — и сколько времени ты отводишь физическим упражнениям».
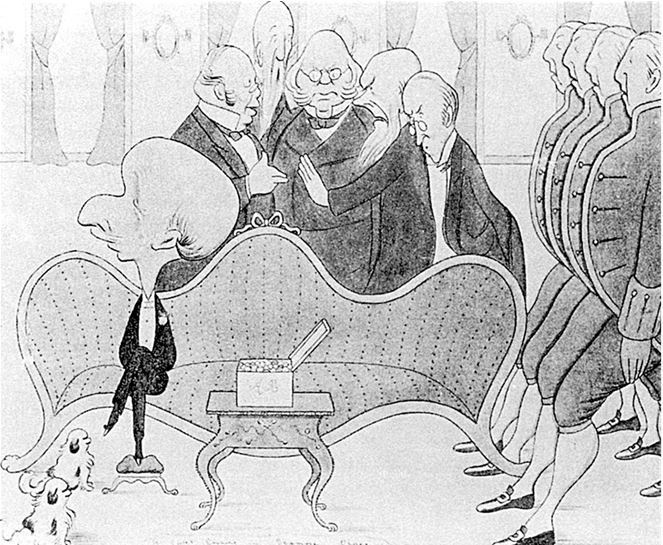
7.1. Макс Беербом. Тихий вечер на Сеймур-Плейс. Врачи советуются, можно ли м-ру Альфреду взять вторую конфету пралине перед сном
Любому университетскому преподавателю известно, что подобное родительское давление зачастую приводит лишь к обратным результатам. Если Лео предпочитал бездельничать в обществе «праздных, ленивых, никчемных молодых людей» вроде Сирила Флауэра
[111], отчасти, возможно, такое поведение стало реакцией на непрестанные поучения матери и отца. Чем отчаяннее Шарлотта призывала его «учиться хоть чему-нибудь — рисованию, живописи, музыке, иностранным языкам», — тем больше его тянуло на другое, в основном на скачки
[112]. В конце концов, единственным из английских Ротшильдов своего поколения, получившим университетский диплом (по правоведению), стал сын Ната Джеймс Эдуард, который рос и учился во Франции. И его едва ли можно назвать рекламой высшего образования. Страстный библиофил, собравший большую коллекцию редких книг, откуда он придирчиво выкидывал тома с малейшим пятнышком, он в 1881 г. покончил с собой, когда ему было 36 лет. Возможно, он стал первым Ротшильдом, у которого накопительство приобрело нездоровый характер.
Конечно, преданность Лео скачкам имела прецедент. Его дядя Энтони в юности очень увлекался скачками, а его дядя Майер, пожалуй, еще больше любил лошадей. Более того, в 1860-е гг. о Майере говорили, что он «постоянно отсутствует и забавляется, поэтому тихие, мелодичные голоса его партнеров и племянников… стали для него неслышными». В 1871-м, «году барона», его лошади выиграли четыре из пяти «классических» скачек: «Дерби», «Оукс», «Тысячу гиней» и «Сент-Леджер». Восемь лет спустя сам Лео стал владельцем победителя Дерби, когда его малоизвестный конь Сэр Бевис побил Висконти графа Розбери и занял третье место (хотя тогда Лео скрылся под псевдонимом «мистер Эктон», желая остаться инкогнито). В 1896 г. он снова чуть не стал победителем Дерби с Сент-Фраскином (который пришел вторым после Айвы принца Уэльского) и победил во второй раз в 1904 г. с Сент-Аманом. Выходит, что и увлечение скачками тоже больше было данью семейной традиции, чем символом упадка; то, что он сумел заработать целых 46 766 ф. ст. призовых за один сезон, можно даже приписать традиционной ротшильдовской проницательности. Примерно в то же время спорт стал неотъемлемой частью жизни Сити — свидетелем тому крикетный матч между командой Сити и командой Лео в 1880 г., классический пример поздневикторианского корпоративного гостеприимства. Еще одной новинкой была любовь Лео к автомобилям, этим любимым игрушкам очень богатых мужчин на рубеже XIX и XX вв. Нечто новое прослеживалось и в экстравагантном желании заказать Фаберже серебряную статуэтку своего Сент-Фраскина (и 12 бронзовых копий для друзей).
Сыновья Ансельма проявляли схожие тенденции. Старший, Натаниэль (род. 1836), учился в Брюнне, но жестоко поссорился с отцом, который считал его транжирой и несведущим в финансах. Фердинанд (род. 1839) выказывал еще меньше интереса к семейному делу, предпочитая проводить время в Англии, где родились и выросли и его мать, и его жена. Он достаточно откровенно признавался в отсутствии у себя важнейшей для Ротшильдов черты. «Странно, — уныло писал он в 1872 г., — всякий раз, как я продаю ценные бумаги, они тут же растут в цене, а если я покупаю, они обычно падают». Оставался Соломон Альберт (род. 1844), которого в семье обычно называли «Сальбертом». Альберт учился в Бонне и в Брюнне «с неустанными энергией, упорством, прилежанием и успехом», но в 1866 г., когда заболел его отец, проявил «величайшее беспокойство, тревогу и ужасный испуг [при мысли о том, что ему придется] самому отвечать за все» в Венском доме. Когда восемь лет спустя Ансельм все же умер, он оставил почти всю свою недвижимость и коллекцию произведений искусства Натаниэлю и Фердинанду, а Альберту — только свою долю в семейной компании, из-за чего тот считал, что с ним «не слишком хорошо обошлись». И Альберту пришлось, за неимением лучшего, заняться семейным делом.
Конечно, в Париже после смерти Джеймса в 1868 г. к власти пришло третье, а не четвертое, поколение. Однако спад ощущался и там. Отчасти проблема заключалась в том, что Джеймс был человеком деспотичным. Фейдо заметил, что Джеймс «никогда не перекладывал ни малейшей части своей громадной ответственности на детей и служащих». «Какая покорность со стороны его сыновей! — добродушно иронизировал он. — Какое чувство иерархии! Какое уважение! Они бы ни за что не позволили себе, даже по отношению к самой незначительной операции, поставить свою подпись — каббалистическую фамилию, которая связывает дом воедино, — не посоветовавшись с отцом. „Спросите папу“, — говорят вам сорокалетние мужчины, почти такие же опытные, как и их отец, независимо от того, насколько незначительна просьба, с какой вы к ним обращаетесь». Ту же тенденцию подметили и Гонкуры.