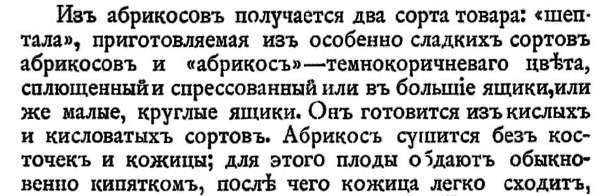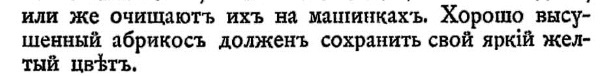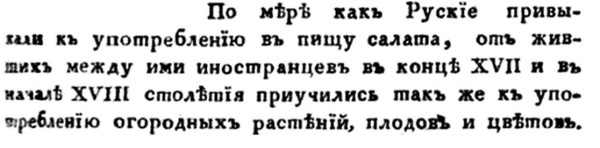Именно в это время азиатские блюда и продукты становятся объектом адаптации в русской кухне. Так, в середине века в нашу массовую кулинарию приходит плов (пилав). Известный русский кулинар Герасим Степанов еще в 1837 году выпускает свою книгу «Новейшее дополнение к опытному повару с присовокуплением Азиатского стола или Восточнаго гастронома». В ней он предлагает вниманию отечественного читателя такие экзотические блюда, как «шешлык-бастарма», «талма» и «плав с молодой пулярдкою». В некоторых из его кушаний сухофрукты и шептала – обязательный ингредиент. Чуть позднее потребность в этих продуктах вызвала необходимость собственного производства. Да-да, сухофрукты начинают изготавливать и в Центральной России – ведь, абрикосы растут и здесь. Вот как в 1893 году журнал «Наша пища» описывает шепталу:
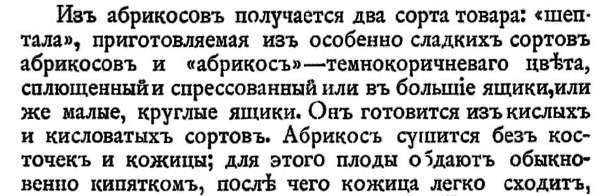
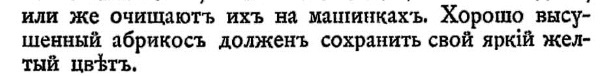
«Сушка в земляных, крытых навесом, ямах, практикующаяся у нас в губерниях Бессарабской, Подольской, Полтавской, Харьковской, производится так, что горячий воздух с дымом от топлива, разведенного в яме, проходит через слои фруктов, разложенных на решетках. Сушка продолжается довольно долго, плоды пахнут всегда дымом. И хотя почему-то чернослив-дымленка, известный в продаже под именем «молдавского» или «бессарабского», и пользуется хорошей славой, но для абрикосов (шепталы) такая сушка мало пригодна.
Сушка в хлепопекарных русских печах при надлежащем внимании и старании может дать уже сносные результаты. По большей же части наши сушильщики не особенно церемонятся при сушке, обращаются небрежно, а потому высушенные в таких печах плоды покрыты зачастую налетом из золы и еще чаще выходят пересушенными, теряют свой вкус и цвет»
[136].
Так что освоение азиатской кухни – лишь незначительное направление в изучении нами достижений восточной культуры, очень непростом и противоречивом. Только сегодня мы можем оценить, насколько зыбкими были победные реляции о присоединении среднеазиатских ханств. Однако среди множества неоднозначных последствий этого процесса имеется один несомненный «плюс». Плоды туркестанской земли навсегда вошли в нашу кулинарию, став ее неотъемлемой частью. Изюм, курага, инжир сотни лет присутствуют на русском столе и, как минимум, двести лет могут считаться русскими – хотя бы по территориальному принципу.
А что вместо салата ели?
Русская кухня немыслима без овощей. «Неубиенная» репа, растущая всегда и везде, при любых непогодах и заморозках. Капуста и огурцы, редька и свекла – все это неотъемлемые элементы нашей средневековой кулинарии. Но вот вопрос: а когда в русской гастрономии появились «заморские» овощи и салаты (под салатами мы подразумеваем не смешанные блюда, а растительные листовые, овощные салаты)? Попробуем найти ответ в старинных источниках.
Существует мнение, что первое более или менее близкое знакомство с листовыми салатами произошло на Руси лишь во времена Ивана Грозного. Как пишет русский историк А.Терещенко, тогда «огурцы соленые, на уксусе и свежие, репа, лук и чеснок считались лучшими кушаньями, и только в XVI веке мы узнали от англичан и голландцев салат, который считали прежде за траву»
[137]. Впрочем, многим историкам это суждение кажется излишне оптимистичным, и они переносят наше знакомство с европейскими растениями еще лет на сто вперед. Среди них – Г.П.Успенский, написавший в начале XIX века весьма подробное и во многом новаторское исследование русского быта и культуры:
[138]
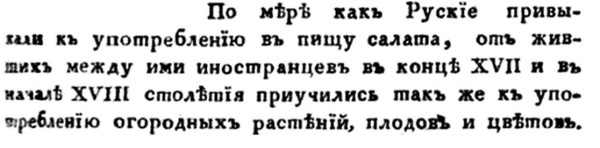
В 1633 г. германский герцог Фридрих III отправил посольство к русскому царю Михаилу Федоровичу с целью изучить обстановку в Московском княжестве и завязать торговые сношения. В качестве секретаря и, главным образом, человека, знающего язык страны, в миссию был включен Адам Олеарий. Его книга «Описание путешествия в Московию», как отмечал русский историк Н.Костомаров, «благодаря своей точности, является одним из важнейших источников для изучения истории России того времени»
[139].
Со слов Олеария, мы знаем, что европейские овощи и растительные салаты именно в начале XVII века и стали проникать в Россию. «Тут имеются и всякого рода кухонные овощи, особенно спаржа толщиною с палец, какую я сам ел у некоего голландского купца, моего доброго друга, в Москве, а также хорошие огурцы, лук и чеснок в громадном изобилии»
[140]. Латук и другие сорта салата никогда не выращивались русскими; они раньше вообще не обращали на них внимания и не только не ели, но даже смеялись над немцами, употреблявшими их в пищу. Между тем посол замечает, что «теперь же и некоторые из них начинают пробовать салат».
Чуть более позднее иностранное свидетельство принадлежит голландцу Корнелию де Бруину, оставившему воспоминания о своем путешествии в Россию в 1701–1704 годах. «Мы научили русских разведению желтой, белой и красной моркови (пастернаку и свекловицы)
[141], которых у них множество, а также салата и сельдерея, прежде им неизвестных, а теперь очень ими любимых», – пишет он. Касаясь закусок и приправ, де Бруин отмечает, что хрен у русских также находится в общем употреблении, и они искусно приготовляют из него разные приправы к рыбе и говядине. «Репы там разного рода в изобилии, точно так же как и красной капусты, которую иностранцы завезли сюда с недавнего только времени. Есть также спаржа и артишок, но едят их только одни иностранцы»
[142].