Суфии унаследовали популистские взгляды хадиситов и их твердую убежденность в достоинстве обычных людей и их понятий. Некоторые из них проявляли это в своей социальной активности. По мере роста влияния суфизма становилось все больше вождей, которые от суфийских размышлений вырастали до руководства народными движениями, стремившимися реформировать правительство и нравы общества. Но рядовые суфии шли иным путем. Вероятно, осознание ими собственных слабостей помогало проявлять терпимость к слабостям других, когда те признавались в них (терпимость, которая не мешала им осуждать заносчивость власть имущих). Подобно манихейцам, они хотели проповедовать выборочно, только отдельным людям. Но сектантами они не были: реформы доктрин интересовали их не больше, чем реформы институтов.
Суфийское духовенство, пиры и мюриды
Многие суфии уделяли время не только публичным проповедям, но и помощи людям в решении моральных проблем по мере их поступления и в поиске чистой жизни, насколько они были на это способны. Поступая так, эти суфии иногда не обращали внимания на разницу в вероисповедании. Так, например, великий пир (наставник) Низамад-дин Авлия в Дели в конце XIII в. выступал в роли исповедника для мусульман всех классов и даже для некоторых немусульман (поскольку был готов признать и достоинства индуизма). Он подчеркивал важность прощения врагов, настаивал на умеренности в наслаждении благами этого мира (но не на аскетизме, который практиковал сам), на ответственном выполнении взятой на себя работы (запрещая при этом выполнение заданий правительства как средоточия коррупции) и на деятельном раскаянии, если человек совершил грех. Его считали вторым по влиянию человеком в государстве после султана, и, находясь в Дели, он располагал преданностью суфийских пиров значительной части Северной Индии.
Такие мужчины и женщины постепенно приобрели огромное уважение в народе. Самые восприимчивые ценили трогательность их проповедей, но еще больше — моральную чистоту, воплощением которой служили сами наставники. Живя в бедности (многие принимали за правило либо употребить, либо раздать к ночи все заработанное торговлей или полученное от учеников за прошедший день), пренебрегая прелестями придворной жизни и борьбой за финансовые и социальные преимущества городского ремесленника, они привлекали заинтересованных людей тем же, чем ранее манихейские священники: они олицетворяли собой ирано-семитские мечты о чистой жизни на фоне несправедливости городского уклада в аграрном обществе. Более того, их чистота не всегда была основана только на отрицании существующего мира. Некоторые суфии взяли за правило попытки воплотить мусульманские общественные идеалы в жизнь. В частности, они увековечили дух протеста, который в свое время заставлял ранних наследников «духовной оппозиции» публично напоминать халифам об их долге. Иногда они проявляли больше настойчивости и агрессивности, ругая правителей, которые не выдерживали сравнения с идеалом, чем состоятельные и, следовательно, более осторожные юристы.
Однако суфизм, терпимый к человеческим слабостям, в целом не отделял себя от распространенных верований и чувств простых людей. В отличие от манихейцев суфии принимали (по крайней мере, внешне) любые встречавшиеся им религиозные концепции. Отчасти вследствие этой терпимости народ выказывал уважение к суфиям, слагая волшебные сказки. Почтение к ним трансформировалось в умах широких масс, которым требовались более простые формулировки, в благоговейный трепет, отразившийся в сказках о суровых испытаниях и чудесах. Как правило, хотя ни один суфий не утверждал в своих писаниях, будто творит чудеса, любому заслужившему уважение окружающих вскоре приписывали всевозможные чудеса (причем радиус их действия от места жительства данного суфия мог быть абсолютно любым), от необычайной восприимчивости душевного состояния других людей до исцеления, телепатии и телекинеза, а также более изощренных фантазий вроде паломничества из Дели в Мекку в течение одной ночи. С такими сказками соглашались и сами суфии (как они соглашались с другими популярными вероисповеданиями) — то есть, в отношении своих почитаемых предшественников.
Абд-аль-Кадир Гилани (1077–1166) — суфийский пир и проповедник, превзошедший по глубочайшему уважению в народе всех других суфиев. Он происходил из рода сайидов, предположительно потомков Али, жившего в Гилане на южном побережье Каспийского моря, и, подобно многим сайидам, он с детства занимался теологией (к тому же ему стали являться видения). Еще в молодости он получил от матери свою долю наследства (в виде восьмидесяти золотых монет, зашитых в халат), а затем женщина отправила его в Багдад получать дальнейшее религиозное образование. Он отправился в дорогу с караваном, и по пути случилось нечто типичное для проявлений его святости в глазах следующих поколений. Его мать перед отъездом взяла с него обещание никогда не лгать. Караван окружили грабители, но Гилани был одет так бедно, что на него почти никто не обратил внимания. Один из грабителей все же спросил его между прочим, есть ли у него с собой деньги. Гилани тут же рассказал о своих восьмидесяти золотых монетах, хотя те были надежно спрятаны. Потрясенный подобной честностью грабитель привел его к главарю банды, и Гилани объяснил тому: если бы он начал свой путь к духовной истине со лжи, его дальнейшие искания стоили бы немногого (здесь он уже, в присущей суфиям манере, ассоциировал истинное знание с нравственной чистотой). Говорят, будто главарь тут же проникся его учением и бросил свой грязный промысел, став первым из многих людей, чьи души спас этот святой.
В Багдаде Гилани избрал своим духовным проводником человека, который торговал сиропом и оказался очень строгим учителем. Закончив курс у наставника, он продолжил учиться самостоятельно: проводил ночи в молитвах (такой образ жизни обычно предполагал обеденный сон). В такие ночи он часто читал Коран наизусть от начала до конца (что было нормальной практикой для набожных людей). Иногда он уходил блуждать в пустыню. Он продолжал вести аскетический образ жизни, сначала в одном из городов Хузистана (на юге Месопотамской долины) и затем снова в Багдаде, примерно до пятидесяти лет. К тому моменту он уже приобрел широкую известность в Багдаде. Достигнув духовной зрелости, к которой стремился и к которой его привели божественные наставления, он начал проповедовать другим. Ему предложили собственную медресе, где он читал лекции по всем стандартным религиозным предметам — Корану, хадисам, фикху и т. д. Между тем он женился; до этого момента он считал брак помехой в духовном поиске, но теперь семья виделась ему общественным долгом, пример которому подал Мухаммад, и обязательным атрибутом публичного человека. За свою долгую жизнь он имел четырех жен и, в общей сложности, сорок пять детей; четверо из его сыновей тоже стали известными теологами. Несмотря на публичность, он продолжал придерживаться аскетизма: так, он обычно постился днем, согласно правилу месячного поста Рамадан, в течение всего года.
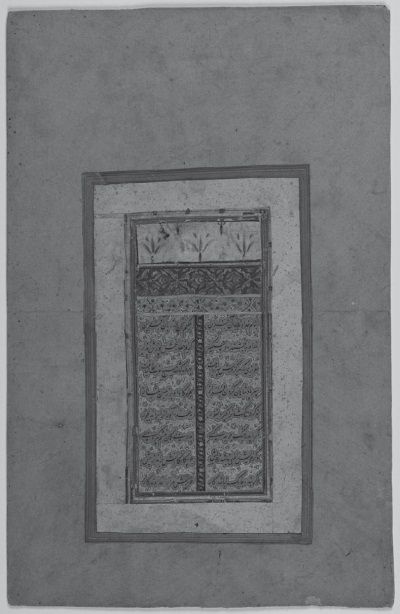
Страница из трактата «Бустан» Саади

