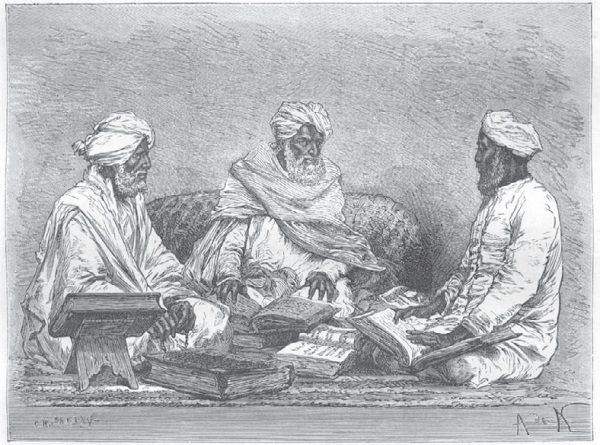В центральных мусульманских землях, которые находились в выигрышном положении благодаря не только циркуляции населения между ними, но и приезду людей из отдаленных регионов, было особенно трудно избегать конфронтации нескольких противоречащих друг другу традиций. Ученики, способные и не очень, старались познакомиться с разными точками зрения на ту или иную проблему. Устраивались публичные диспуты между известными учеными; первый, кто не смог парировать аргумент соперника, признавался побежденным, даже теми, кто поддерживал его взгляды и считал, что выигрыша достоин сильнейший. Влияние консервативного духа проявлялось в таких диспутах: процедура проходила согласно принципу о том, что из двух конкретных позиций одна непременно верна, а вторая — ложная. Как и в современной парламентской процедуре, никто не ожидал, что в результате обмена противоположными мнениями выстроится непредвиденная новая синтезированная позиция; изменения, в лучшем случае, происходили в виде одной-двух поправок с учетом конкретных замечаний или заменой на какую-то третью позицию, высказанную следующим ученым, бросившим вызов победителю. В любом случае, для экспромтных диспутов требовались большие знания и прекрасная память. Тем не менее в них быстро проигрывали те, кто мог похвастаться только хорошей памятью (которая так поощрялась системой зубрежки). В них явное преимущество отдавалось процессу взаимодействия и диалога, необходимых для выживания любой традиции.
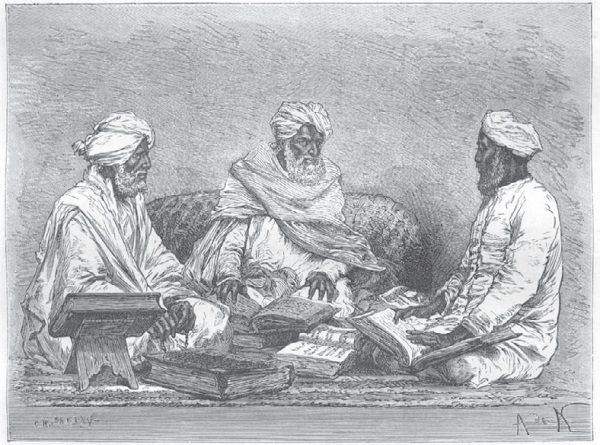
Индийские улемы. Гравюра XIX в.
У ученых, которые лучше других умели толковать книги, провоцирующие споры, был менее тяжелый способ достичь аудитории. Продавцы книг размещали свои лавки около медресе и продавали все, что могло привлечь покупателей, независимо от того, считалось ли содержание книг ересью. Как только автор завершал рукопись, ее под диктовку размножали несколько переписчиков. Переписчиками могли быть собственные ученики автора, а также работники или рабы книготорговца. Чтобы добиться более точной передачи, чем могла обеспечить диктовка, состоятельный человек нанимал ученого, который копировал рукопись с качественного, более старого варианта, предпочтительно автографа автора (если таковой возможно было найти); или какой-то ученый делал копию для собственных нужд. Такие экземпляры подписывались и высоко ценились. Правители и состоятельные граждане, а также мечети и медресе с их деньгами от вакфов любили коллекционировать надежно подтвержденные экземпляры авторитетных трудов и часто не ограничивались трудами, получившими одобрение улемов. Иногда книги писались с намерением не вызвать подозрений блюстителей шариата или гнева власть предержащих, но при этом их целью было стать основой для новых смелых открытий, благодаря которым они со временем получили бы всеобщее признание. Именно так, к примеру, в позднем Средневековье в обществе постепенно стали высоко цениться идеи фальсафы.
Суннитское и шиитское представление об истории ислама
Образование в медресе поощряло (и было призвано подтверждать) широкое признание среди мусульман общих доктрин о мировом устройстве. Как минимум, в определенных сферах оно успешно с этим справлялось в соответствии с духом консерватизма.
К концу раннего Средневековья многообразие типов обучения и религиозных образовательных учреждений в период высокого халифата выкристаллизовалось в три основных направления, три традиции исламской религиозности, каждая из которых имела собственных выразителей, но в определенной степени присутствовала в духовной жизни все большего числа мусульман параллельно с двумя другими. Шариатизм — будь то его суннитская или шиитская форма — признавался всеми остовом ислама народных масс. Но чаще всего он сочетался (в разных пропорциях, в зависимости от конкретного человека или группы) со вторым направлением, суфизмом — как минимум, в его более или менее выраженных формах в том виде, в каком они закрепились в народе. Наконец, алидский лоялизм был распространен не только в ярко выраженных шиитских сектах, но и у многих течений суннизма, поскольку с широким принятием суннизма населением в первой половине Средних веков сохранилось и наследие шиитов.
Алидский лоялизм выражался в особом почете, оказываемом всем Алидам-Фатимидам, и особенно главным фигурам линии Джафаритов, — равно как и в других, менее явных вещах. Суннитские теоретики выделяли «достойный шиизм», который не подлежал оспариванию: суть такого шиизма формулировалась в тезисе о том, что лучшим из людей после Мухаммада был не Абу-Бакр (которого обычные сунниты считали избранным со стороны джамаа), а Али, но Абу-Бакра и Омара не следует порицать. Однако шиитское наследие заключалось не только в этом. Его важнейшим выражением стало всеобщее ожидание прихода Махди, потомка Мухаммада, желательно носящего его имя и имя его отца (Мухаммад ибн Абд-Алла), который восстановит справедливость в мусульманском сообществе и в мире перед концом света; и, что так или иначе связано с вышесказанным, особое почитание личности Мухаммада, которой (во многом благодаря суфийским мыслителям) придан метафизический статус как проявлению космического Мухаммадова Света
[299].
Параллельно с этими тремя специфически исламскими традициями личностной ориентации развивалась та, которую мы можем назвать фаль-сафизмом: представлением о структуре мира как о рациональном единстве, а о жизни человека — как о его гармоничной реализации. Эта тенденция не ограничивалась одной только фальсафой, но часто сочеталась с весьма специфической исламской религиозностью и особенно — с суфизмом, приверженностью Алидам или с обоими течениями сразу.
Шариатское направление (с учетом влияния на него остальных) было единственным, авторитетность формулировок которого признавалась абсолютно всеми и с которым обязаны были считаться представители всех остальных. Оно представляло собой модель легитимации в обществе и единственное из всех было в полной мере экзотерическим, и в соблюдении его доктрин нашел свое полнейшее воплощение дух консерватизма. Улемы любили заявлять, что эти доктрины всегда соблюдались истинными мусульманами — вначале внутренне, впоследствии подчеркнуто своими действиями, поскольку с появлением ереси это стало необходимостью. Тому, что различные почитаемые фигуры — такие, как аль-Хасан аль-Басри и Абу-Ханифа, — казалось, не были «ортодоксальными» в понимании более позднего шариатского суннизма, было найдено оправдание: первая «ересь» всегда приписывалась кому-то другому, а великие очищались от того, что улемы могли посчитать клеветой завистников.
Есть превосходные ученые, для которых все культурные феномены — по крайней мере, все «аутентичные» — это проявления того или иного культурного целого. В таком целом неважно, когда впервые формулируется та или иная деталь, так как ее смысл определяется только ее положением в едином целом. Всю литературу конкретной традиции или комплекса традиций следует читать как единое собрание, где каждое отдельное произведение нужно понимать в свете всех остальных. Культурное целое можно воспринимать как принадлежащее одной расе или религии, одному племени или народу. В любом случае, культурная жизнь — свойство этого целого, а не его индивидуальных носителей, или, скорее, его продуктов. Все конкретные проявления — всего лишь вариации традиционных, древних архетипов — мифов, представлений или институтов. Если обнаруживаются очевидные несоответствия или отдельные отклонения, которые нельзя понимать как ситуативные вариации, их следует относить к вырождающимся смешанным формам, результатам влияния извне или случайного «заимствования»; но даже заимствование происходит в большей степени на поверхности, поскольку чуждый материал усваивается только в качестве вспомогательного для местной модели или развивающего ее.